Рюрик и Давид – братья, Ростиславовичи, сыновья великого князя Смоленского Ростислава Мстиславовича, внука Владимира Мономаха. Сестра Ростислава Мстиславовича – мать великого князя Святослава Всеволодовича, который и был среди Мономаховичей известен под именем «сестричича». Рюрик, князь Перемышльский, несколько раз захватывал и терял великое Киевское княжение. Давид – князь, а позднее великий князь Смоленский.
Ярослав Осмомысл – Ярослав Владимирович, князь Галицкий, женат на сестре Всеволода Большое Гнездо; отец Ярославны, супруги Игоря.
Упоминание о том, что Ярослав Осмомысл стреляет по салтанам за землями, толкуется как указание, что его полки принимали участие в Крестовых походах (Дубенский).
Буй Роман – Роман Мстиславович, князь Владимира Волынского. Он племянник упомянутых выше Рюрика и Давида (сын их брата Мстислава), и женат был на дочери Рюрика Мстиславовича.
Роман Мстиславович впоследствии Роман Великий, великий князь Галицкий.
Мстислав – Мстислав Ярославович, князь Луцкий, двоюродный брат Романа.
Ингварь и Всеволод – братья выше упоминавшегося Мстислава. Они сыновья Ярослава Изяславовича и зовутся Мстиславовичами в память их прадеда Мстислава Владимировича, старшего сына Владимира Мономаха.
Шестикрылица – поэт уподобляет трех удалых князей молодым орлам из славного гнезда Мстиславова: у трех орлов – шесть крыльев.
Изяслав Василькович – князь Городецкий, из рода князей полоцких – потомков Изяслава, старшего сына Владимира Святого и Рогнеды. Пал в битве с литовцами в 1183 году.
Братья Изяслава Васильковича – Брячислав, князь изяславле-витебский, и Всеслав, князь полоцкий, умерли до 1183 года. Поэтому певец не кладет на них упрека в том, что они покинули своего брата в борьбе с врагом, но просто сочувственно отмечает печальное одиночество умирающего князя.
Братья князья Васильковичи – правнуки Всеслава Брячиславовича Полоцкого, которому, по словам певца, Изяслав и прирубил новой славы.
Ярослав и внуки Всеславовы. Хотя в настоящее время исторически установлено, что впервые привел половцев на Русь – Роман Красный, старший брат Олега, основателя Ольгова гнезда, автор «Слова» отводит обвинение в том от Ольговичей и возлагает его на отдаленный от других княжеских родов – род князей полоцких, потомков Всеслава Брячиславовича.
Так как среди князей полоцких нет Ярослава, то обращение певца к какому-то князю этого времени вызывает различные толкования. Более других представляется естественным предположение, что здесь подразумевается Ярослав Владимирович, сын Владимира Мстиславовича, известного под прозванием «мачешич», так как он, из числа всех сыновей Мстислава Владимировича, один был сыном от второго брака.
Этого Ярослава Владимировича Всеволод Большое Гнездо в 1182 году поставил в Новгороде вместо удаленного новгородцами Владимира Святославовича – сына великого князя Святослава Киевского, главы Ольгова гнезда.
Седьмой век Троянов. – Четвертое и последнее упоминание в «Слове» имени Трояна.
Автор «Слова», приступая к своей песне, предупреждает слушателей, что, хотя он поведет ее на старый лад, но начнет ее по-новому, а именно с былей близкого ему времени, а не с преданий темной древности, как повелось по образцу, установленному Бояном. И далее, сказав, что он будет вести песню по былям от Владимира Мономаха до Игоря, он как бы сам разделяет всё, что ему придется говорить, на два периода. Всё, что от Игоря до Владимира, – правда, быль; а всё, что давнее, – сказания, предания, легенды. О всех событиях последнего времени от дней Владимира Мономаха, – певец говорит с уверенностью и без ошибок.
Что же касается событий более древних, – он не всегда тверд в их последовательности и подчас, как мы видим, нарушает их хронологию. И всю повесть о Всеславе Полоцком отнес он ко временам древней веры, хотя Всеслав унаследовал полоцкое княжение в 1044 г., т. е. 56 лет спустя после крещения Руси. И, по-видимому, сам певец чувствовал себя неуверенным в утверждении, что было это в века Трояновы: он счел нужным подчеркнуть, что случилось это уже на исходе древней веры – в последний, седьмой век Троянов, подобно тому, как последнее небо – седьмое, последняя печать – седьмая, и т. п.
Летописец называет Всеслава злым и кровожадным, а народное воображение наделило его качествами чародея и суеверно приписывало его жестокость волшебной повязке, которую носил Всеслав для прикрытия природной язвы.
Автор «Слова» облачил всю историю Всеслава в сказочные формы, но в ней верно сохранен тот дух непримиримой вражды, с какою этот внук Изяслава вел борьбу с потомками Ярослава Мудрого.
Ни гораздому хитро по птице мудрствовать. В этих словах припевки Бояна заключается указание на то, что Всеслав был искусен в птицегадании.
Старый Владимир – Владимир Мономах.
Ярославна– супруга Игоря – княгиня Ефросинья Ярославовна, дочь князя Ярослава Осмомысла Галицкого.
В плаче Ярославны, в обращении к Днепру, вспоминается поход на половцев великого князя Киевского Святослава Всеволодовича.
Овлур, или по летописцу Лавер, – половчанин, которого мать была русская: он помог Игорю уйти из плена и сам бежал с ним вместе.
Стугна – река, приток Днепра. На ее берегах в 1095 г. полову нанесли поражение русским князьям, среди коих был и Владимир Мономах. Его младший брат, юный Ростислав, за неимением лодок, спасаясь от преследующих половцев вплавь, утонул в Стугне, несмотря на помощь брага. Владимир сам при этом чуть не утонул
В течение долгой жизни Мономаха, грозы половцев, это было единственное поражение, испытанное им от них. И до конца дней Владимир не мог вспоминать без слез об этой несчастной битве.
Можно думать, что автор «Слова» ввел воспоминание о битве на Стугне для того, чтоб утешить слушателей своих мыслью, что даже такой знаменитый князь однажды потерпел от половцев жестокое поражение. Недаром он заканчивает этот трогательный рассказ тем же припевом, каким заключена была гибель Игоревой рати на Каяле: Приуныли на лугу цветы от жалости и к земле сырой в тоске припало дерево.
В разговоре Гзака с Кончаком речь идет о молодом князе Владимире Игоревиче, который действительно женился на дочери Кончака и с ней вернулся на Русь в 1187 году.
Боричев – один из крутых спусков (взвозов) от середины Киева к берегу Днепра.
Пирогощей Богородицей называлась церковь, заложенная великим князем Мстиславом Владимировичем в 1131 году. По одному толкованию название свое она получила от имени купца Пирогощи, привезшего из Царьграда образ Божьей Матери. По другому объяснению в ней находилась башенная икона Божьей Матери: пирагощая происходит от греческого слова башенная.
ЭДНА СЕНТ-ВИНСЕНТ МИЛЛЕЙ
(1892-1950)
ВОЗРОЖДЕНИЕ
Под зыбкой дымкою жары
Я видел лес и три горы.
Взглянул назад я, – там, дремлив,
Качал три острова залив.
От них, по тонкой грани той,
Где небо чистою чертой
С землей сливалось, я свой взгляд
Повел медлительно назад,
И вновь под дымкою жары
Увидел лес и три горы.
Закрыв всю даль, они стеной
Вздымались близко предо мной, –
Казалось, с места не сходя,
Рукою мог их тронуть я.
И так стал тесен мир кругом,
Что грудь дышать могла с трудом.
Но – помнил я – ведь свод живой
Высок, глубок над головой:
Не лучше ль навзничь лечь в траву
И пить глазами синеву.
Я лег… смотрел… В конце концов,
Не так высок уж неба кров…
И где-то небу есть предел…
Едва подумал, – вдруг осел
Небесный купол, как шатер…
Я руку к своду вверх простер,
В надежде, что лишь греза он, –
Но вскрикнул, тронув небосклон.
А крикнув, сам себе прозрел
Я Беспредельности предел.
В мозгу Безобразного лик,
Подобный образу, возник;
Я сквозь него, как сквозь кристалл,
Всю Бесконечность созерцал,
Где бездна Вечности несла
Миры без счета и числа.
И Чей-то голос там шепнул
Одно лишь Слово. Сразу гул
Пространств затих: в мирах легло
Безмолвья тихое крыло.
И было слуху моему
Дано в молчаньи слушать тьму:
Мне вдруг стал внятен неба треск,
Пучин бессветных мертвый плеск,
И говор горних голосов,
И, точно мерный стук часов,
Эонов ход… И все уму
Открылись «Как» и «Почему»
От века и на век веков…
Так пал с вселенной тайн покров
И жуткой раною до дна
Ее зияла глубина.
Над ней томилась мысль моя…
Страшась загадок бытия,
Я отвращал глаза мои…
Но, словно смертный яд змеи
Из раны высосать спеша,
Познанья дар пила душа,
Как чаша, полнясь по края
Отравой страшного питья:
И я Всеведенье купил
Ценою страшной, свыше сил.
Все бремя жизни мировой
Я поднял ношей роковой:
Проклятья, ропот, плач, мольбы,
Ожесточение борьбы,
Тысячеликий грех мирской,
Терзанья совести людской,
Тоска раскаянья и стыд,
Все слезы боли и обид,
И бушеванье всех страстей,
И темный ужас всех смертей, –
Вся бездна горя, мук и зла
Моею чашею была.
Как человек, за всех и вся
Один все муки вынося,
Объят, как Бог, я вместе с тем
Был состраданием ко всем…
И, как ни ждал, ни жаждал я,
На миг не ведал забытья,
И каждый миг в немой тиши
Был истязанием души…
Так Вечность мстила мне, давя
Меня, минутного червя.
Я изнывал… Мой стон был глух…
Как птица пленная, мой дух
Уже рвался из бренных уз…
Но роковой незримый груз
Душил, как гроб… стеклянный гроб…
Горя в огне, терпя озноб
До мозга ноющих костей,
Я вынес тысячи смертей,
Но, ад их заживо испив,
Был всё для новой пытки жив.
Так долго я лежал, моля
О смерти жданной; вдруг земля
Разверзлась: слишком тяжела
Ей ноша Вечности была.
И за вершком вершок, сходил
Всё вглубь я… Там жильца могил
От пытки спас с землей союз, –
Там власть свою утратил груз:
Свалилось бремя… Я легко
Вздохнул всей грудью глубоко.
Но в жадном вздохе, как струна,
Порвалось сердце… Тишина
Меня объяла. Свет потух.
А истомившийся мой дух
На волю из тюрьмы плотской
Рванулся с силою такой,
Что надо мною в головах
Столбом взвился могильный прах.
Теперь, недвижный и немой,
Я почивал в земле сырой.
Вокруг — таинственная мгла;
Отрадна свежесть для чела,
Благая тишь покоит слух,
А грудь земли нежней, чем пух,
И люб, как отдых, смертный сон
Тому, кто рад, что умер он.
Но – чу. Вверху, в стране живых,
Веселых капель дождевых
Звучит так четко частый стук…
Как будто пальцы милых рук
Ко мне стучат, меня будя…
И поступь легкую дождя
По кровле кельи гробовой
Я слушал четко, как живой.
О, никогда при свете дня
Так дождь не радовал меня:
Он, милосердный, вновь, как друг,
О жизни мне напомнил вдруг.
Ах, жить бы… Жить, чтоб в мир войдя,
Мне пальцы целовать дождя,
Дышать дождем, и лишний раз
Насытить взоры алчных глаз
Сверканьем серебристых струй…
Благоуханий поцелуй
Сорвать у ветра на лету…
Увидеть яблони в цвету,
Когда, в алмазы их рядя,
По ним бегут струи дождя.
Ведь дождь промчится. Солнца шар,
Смеясь, прольет, как светлый дар,
С небес опять живящий свет, –
И засмеется мир в ответ,
Свои мечты омолодя
Студеной влагою дождя.
Поля и лес вольней вздохнут,
В траву деревья отряхнут
Шумливо ливня жемчуга,
Чтоб их дрожащая серьга
На каждом тоненьком стебле
Зажглась, как солнце… на земле.
И вдруг… не жить… не быть… Но знать,
Что вечной жизни благодать
Везде кипит, и бьет во всем
Неиссякающим ключом,
И что, рядясь во все цвета,
Природы пышной красота
Дарит земле о счастьи сны…
Наряд серебряной весны,
Осенний золотой убор, –
О, неужели, с этих пор
Для глаз моих ваш блеск угас,
И буду я, вблизи от вас,
Здесь, замурован в тесный склеп,
Лежать, бесстрастен, глух и слеп…
Я жить хочу. Отдай, отдай
Мне, Боже, жизнь… В Твой мир, как в рай,
Позволь опять вернуться мне.
Сбери в небесной вышине
Все тучи сонмом… Надо мной
Пусть дождь могучий, проливной
Потоком хлынет, и сорвет
С меня земли могильной гнет.
Я смолк. И в мертвой тишине,
Кругом царившей, ясно мне
Моя мольба слышна была:
Казалось, звонких два крыла
Ее умчали от земли,
И обещаньем принесли
Назад, с небесной вышины,
Как звон трепещущей струны.
И вмиг, пугая свистом слух,
Внезапный ветер, как пастух,
Бичом сгоняющий стада,
Хлестнул по тучам. Их орда,
Теснясь, идя в смятеньи вспять
Обволокла весь мир опять,
И хлынул дождь, струясь сплошной
Непроницаемой стеной.
Поток потряс мою тюрьму…
И, как случилось – не пойму,
Но в мертвый мир, в мой мир утрат,
Такой проникнул аромат,
Какой лишь редко, лишь тайком
Живым и радостным знаком.
И чудилось так сладко мне,
Что песнь я слышу в полусне:
Так эльф беспечный, жизнь любя,
Поет бездумно, про себя…
Еще мгновенье, – и постиг
Я пробужденья светлый миг.
Уж въявь, у самой головы
Я слышал тихий шум травы;
Персты прохладные дождя,
Сухие губы холодя,
Снимали с них запретный знак
Печати смертной… Тяжкий мрак
Упал с очей… И, как мечту,
Я видел яблони в цвету,
Сверканье капель дождевых,
И трепет пятен световых,
И высь, синее бирюзы;
Вдали терялся гул грозы;
И орошенный ливнем сад
Свой благовонный вздох был рад
Прислать к надгробью моему…
И, как случилось, – не пойму, –
Но я, вдохнув тот аромат,
Души почувствовал возврат.
Вскочил я… Крикнул… Страстно дик
Был голос мой. Подобный клик
Мог кинуть в дали, до небес
Лишь тот, кто умер… и воскрес.
Я, как безумный, ликовал:
Руками страстно обвивал
Стволы деревьев; бархат трав
Лелеял, вновь к земле припав;
Опять поднявшись, вновь ласкал
Листву кустов и камни скал,
И, руки к небу вознося,
Смеялся я, смеялся я.
Смеялся я, пока прилив
Рыданий, горло захватив.
Не стиснул груди. Перебой
Мне сердце сжал… И сам собой
Нежданно хлынул из очей
Горячих слез живой ручей…
А с ним безудержна была
Молитвы пламенной хвала.
Ты, Боже, славен и велик.
Ты в жизни мира – многолик, –
Но Образ Твой я обрету
Везде, как свет и красоту.
Пройдешь ли, над травой скользя,
Мне в ней сверкнет Твоя стезя;
На самый тихий шепот
Твой Я отзовусь мечтой живой;
В глухой ночи и светлым днем,
Идя всегда Твоим путем,
Везде я к сердцу Твоему
Уста молитвенно прижму.
Ведь если мир Твой и широк,
Не шире сердца он; высок
Небесный купол, но и тот
Не выше, чем души полет.
И сердце чуткое, горя,
Раздвинет сушу и моря,
А бездну неба рассечет
Души дерзающей полет,
И явит миру – Лик Творца…
Тому ж, кто Божьего Лица
Не отразил, – беда тому…
И сердце тусклое ему,
Соединясь в урочный срок,
Расплющат Запад и Восток,
Его задавит свод небес
За то, что в мире, средь чудес,
Душою мелкой не умел
Постичь он чуда Божьих дел.
19 марта 1940, Нью-Йорк
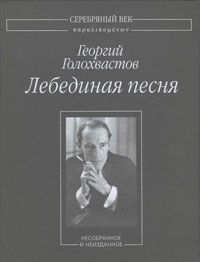


![Картер Браун - Том 13. Пуля дум-дум [Тело. Жертва. Пуля дум-дум. Бархатная лисица]](https://cdn.my-library.info/books/142921/142921.jpg)