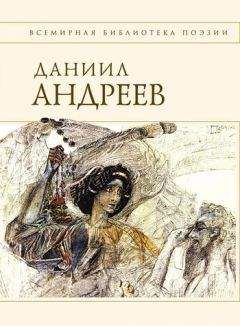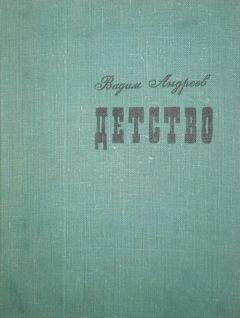КОЛОДЕЦ В СТЕПИ (1–3)[85]
1. «Овраг и деревянный сруб колодца…»
Овраг и деревянный сруб колодца,
В квадратной мгле шевелится вода.
Уходит день, — он больше не вернется,
Он больше не вернется никогда.
Вдали пылит усталая телега, —
Клубится пыль, как розовый цветок,
И облака на поиски ночлега
По небу гонит теплый ветерок.
Уходит день за гребень косогора,
Туда, где черные торчат кусты.
Постой, не торопись, — теперь уж скоро
Ты все поймешь, и все забудешь ты.
Вода в степном колодце пахнет мятой.
Высоко в небе плачут журавли.
Нам в дальний путь пора — о без возврата —
Уйти по черным рытвинам земли.
2. «Над выжженной дотла, белесой степью…»
Над выжженной дотла, белесой степью,
Сквозь беспощадно пыльный зной, вдали,
Струится дымное великолепье,
Мучительное марево земли.
Плывут во мгле летучие озера,
Качаются и тают тростники,
И жарким ветром зыблемые горы
Встают над дымной заводью реки.
А здесь — трещат кузнечики до боли,
И мертвая земля дождей уже не ждет,
И пыльный саван покрывает поле,
И ночь не спать, а мучиться идет.
Вдали, над степью, над пустым колодцем,
Недвижен журавля упрямый шест —
Он не наклонится, он не согнется,
Он тоже мертв — грозящий небу перст.
3. «Крутясь, взлетит бадья, и плеском плоским…»
Крутясь, взлетит бадья, и плеском плоским
Наполнится слепая тишина,
И каждый звук легчайшим отголоском
Повторит черная и влажная стена.
В лицо пахнет разбуженная свежесть,
И солнечные зайчики вразлет,
Как стая бабочек, резвясь и нежась,
Вспорхнут над бархатом зеленых вод.
Но вот умолкнет шум, опять настанет
В разбуженном колодце тишина.
С последней, запоздавшей каплей канет
В небытие — короткая волна.
А там, вверху, где ивовые лозы
Стоят у края черной борозды,
Как лепестки осыпавшейся розы,
Сверкают пятна пролитой воды.
[1939]
Перед грозой («Стоят стога на рыже-сером поле…»)[86]
Стоят стога на рыже-сером поле.
Чуть тронут золотом далекий лес.
Большое солнце в дымном ореоле
Уходит в ночь с измученных небес.
Над мутным краем выжженной равнины
Ползет тяжелая лавина туч.
Огнем одеты дымные вершины
И белым бархатом — отроги круч.
Вдали гроза внезапно всколыхнула
Неповоротливую тишину,
И звуки круглые глухого гула
В незримую скатились глубину.
Чем мглистей и душнее воздух дольний,
Чем глубже в мрак уходит свет дневной,
Тем ярче блеск розовооких молний
Над дымной, потрясенною землей.
[1939]
«Здесь пахнет сыростью, грибами…»[87]
Здесь пахнет сыростью, грибами
И застывающей смолой,
И, точно коврик кружевной,
Лежит меж черными корнями
Мох — серебристо-голубой.
Как высоки большие ели!
Как недоступны небеса,
Как осторожны голоса —
Здесь даже краски не посмели
Обжечь осенние леса.
И только в глубине ложбины,
Одна, в безмолвии лесном,
Сквозь темно-серый бурелом
Узорчатая ветвь рябины
Пурпурным светится огнем.
[1947]
«Уже сошел с лица полдневный жар…»[88]
Уже сошел с лица полдневный жар,
Уже открылся вечер предо мною,
Уже струится серебристый пар
По волосам — кудрявой сединою.
От сердца, как от тополя, легла
На землю тень с таким очарованьем,
Что от ее прохладного крыла
Повеяло — уже ночным дыханьем.
Все стало призрачным и голубым —
Поля и серая в полях дорога,
И медленно встающий нежный дым
Над темною излучиною лога.
Я в этом мире странном отражен,
Пленен его прозрачной немотою,
И я уже не я, я новый, — он —
Стою, один, пред правдою ночною.
[1939,1940]
«С таким печальным восклицаньем…»[89]
С таким печальным восклицаньем
Усталый поезд отошел,
Что стал вокзал — воспоминаньем,
Пронзительным очарованьем
Того, что я на миг обрел.
Стучат колеса так тревожно,
Так жизнь покоится в тени,
С такою лаской осторожной,
Неповторимой, невозможной
Горят вокзальные огни,
Что я стою обезоружен,
Смотрю, как будто сам не свой,
На нежную дугу жемчужин
На персях ночи голубой.
[1947]
«Пурпурное зарево медленно гаснет…»[90]
Пурпурное зарево медленно гаснет.
Над самой землею горит золотистая нить.
В сереющем поле кузнечики звонко и страстно
Стараются шелест ночной заглушить.
Но с каждым мгновеньем все шире, все глуше
Томительный шорох и шепот встревоженных снов,
И скоро до самого сердца он будет разрушен
Наш видимый мир — о, до самых основ.
И только вверху, над печальной землею,
Над душами тех, кто тоскует и плачет в тени,
Огромные звезды лазурные очи откроют,
Но нашей земли не увидят они.
[1947]
«Когда весна хрустальными перстами…»[91]
Когда весна хрустальными перстами
Ласкает посеревшие снега
И с крыш капель — все звонче и упрямей
Тяжелые роняет жемчуга,
И запахом, и одурью навоза
Весь воздух пьян, и вновь земля
Из-под темно-лиловых лап мороза
Освобождает влажные поля,
И в серый покосившийся скворечник
Опять жильцы вернулись на постой,
И лес звенит такою тягой вешней,
Таким сиянием, такой весной,
Что только бы дышать — не надышаться,
Что только б слушать, как лучится свет,
Как вместе с светом начинает излучаться
Все то, чему названья даже нет.
[1947,1948]
«Утомительный зной не остыл…»[92]
Утомительный зной не остыл,
И еще не пахнуло прохладой.
Полумесяц, качаясь, поплыл
Поплавком над оградою сада.
Точно окунь, блеснула звезда,
Призрак мыши летучей метнулся
И мгновенно исчез без следа,
Только воздух едва колыхнулся.
За высокой садовой стеной
Пробежали, толкаясь, солдаты,
И запахло во мгле голубой
Сапогами и розовой мятой.
И внезапно вздохнула гармонь,
И с такою тоскою бескрайней
Этой песни зажегся огонь,
Ослепительный, нежный и тайный,
Будто небо расплавилось вдруг,
Будто тенью зарницы бегучей
Озарил этот огненный звук
Нашу землю и дымные тучи.
[1947,1948]
И делят ризы мои между собою
И об одежде моей бросают жребий.
Псалтирь 21.19.
Распявшие Его делили одежды Его,
бросая жребий, кому что взять.
От Марка 15.24.
Он пах селедками и керосином,
Прикрытый периною быт. По ночам
Медлительный сон в полушубке овчинном,
Усевшись на лавку, угрюмо молчал.
Как гуща кофейная в погнутой кружке, —
Осели на дно неподвижные дни.
И не было кукол. Слепые игрушки
Лежали, как мертвые звезды, в тени.
…У Ревекки кукол нет,
А Ревекке восемь лет…
Как высоко подвешены баранки.
Над бочкой, где ныряют огурцы,
Как угли, светятся в стеклянной банке
Таинственные леденцы.
Как пахнут пряники миндальной пылью,
Как сладостно о пряниках мечтать, —
Вот если б подарить Ревекке крылья,
Чтоб эти пряники достать.
…У Ревекки кукол нет,
А Ревекке восемь лет…
Но иногда вот в эту тишину,
Но в этот мир — невзрачный, серый, душный,
Привыкший к полуяви, к полусну,
Расчетливый и законопослушный,
Врывались гордые гортанные слова,
Звучали в хейдере рассказы ребе,
И странно озарялась голова,
И таял бледный быт в библейском небе.
Кричат погонщики верблюдов
Арбы, настойчиво пыля,
Скрипят. Вдали, как чудо,
Обетованная земля
Колеблется в тяжелом зное.
И море дымно-золотое
Сверкает, светится, блестит
И жадным пламенем горит.
А позади плывут в песках
Медлительные колесницы,
Поблескивают на щитах
И копьях — желтые зарницы,
И раскаленная завеса,
Тяжелые войска Рамзеса
Полуприкрыв слепым крылом,
Струится в воздухе пустом.
Он поднял руку, и вода,
Как зверь ощерясь, отступила
И раскололась, и слюда
Края зыбучие покрыла.
Меж водорослей и камней,
Блистая чешуей своей,
Как нерастаявшие глыбы,
Огромные лежали рыбы.
Когда Израиль перешел
По дну на берег Аравийский
И медленно последний вол
Втащил арбу на берег низкий, —
С тяжелым вздохом наслажденья
Разорвала оцепененье
И войско вражье без следа
Пожрала дымная вода.
Высоки ночные ели.
Крепок огненный мороз.
Нежным бархатом метели,
Лепестками белых роз
Укрывает ночь пустыню.
Сердце человека стынет,
И, медлительный, течет
Воздух, превращаясь в лед.
И идут, как будто по дну,
Темной просекой лесной,
Погрузившись в мрак подводный,
Беглецы слепой толпой.
А вдали упрямо лает,
И визжит, и настигает,
И строчит, и бьет, и бьет
Полуночный пулемет.
Низкое, ночное небо.
У Ревекки куклы нет.
У Ревекки нету хлеба.
Заметая слабый след,
Медленно и неустанно
Падает сухая манна,
В черном воздухе летит,
В черном воздухе звенит.
Кто во тьме поднимет руку?
Кто расколет мрак ночной?
За твою, Израиль, муку
Кто пожертвует собой?
Далека земля родная,
Золотая, голубая,
Каменистая, святая,
Ханаанская земля.
Как развалины древнего храма,
Колоннадой без крыши стоят
Неподвижно, сурово, упрямо
Эти трубы и жадно дымят.
И во мгле, как глаза великанов,
С каждым часом еще горячей
Полыхают отверстья вулканов,
Золотые орбиты печей.
В черном дощатом бараке
Сложены — до потолка —
Старые платья и фраки —
Плоская, злая тоска.
И наверху приютились,
В ряби застывшей реки,
Все, чем они поживились, —
Стоптанные башмачки.
За нас, за нашу злую землю,
За тех, кто плакал, кто смеяться смел,
За тех, кто говорил — «нет, не приемлю»,
За тех, кто ненавидел, кто жалел,
За то, чтоб девочкам дарили куклы,
Мальчишкам — деревянные мечи,
Горят над лагерем, в том небе тусклом,
Ее — неотразимые — лучи.
…У Ревекки кукол нет,
А Ревекке было восемь лет.
[1947]
Слово («Бывает так — и счастья нет огромней…»)[94]