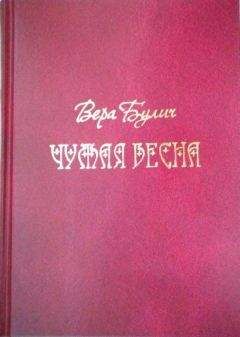1937
Все то же творится на свете
Под знаком живой новизны.
Рождаются новые дети
Для нового смерча войны.
Вошла победителем в город
В урочное время весна —
И лед в заливе распорот
И блещет на солнце волна.
А в сумраке лабораторий,
В глухой кабинетной ночи,
Мечтая о вольном просторе,
Смертельные зреют лучи.
Где стаи крылатых пилотов
Пути пролагали свои —
Громоздкий обоз самолетов
Наезживает колеи
И вот прорываются страсти,
Колеблются троны, венцы…
Толкуют об Екклезиасте
Пресыщенные мудрецы.
Ничто под луной не ново,
И ветер вернется домой —
К зиянию места пустого,
Покрытого тусклой золой.
Суровая зима
1939–1940
I
Не называя даже словом,
Но помня, что идет она,
Что жизнь едва защищена
Случайным и неверным кровом…
Предчувствуя, как рухнут стены
Непрочных городских квартир,
Как, искаженный, дрогнет мир
От налетевшей перемены —
Пересмотреть, пересчитать
Все призрачное достоянье,
На письменном столе прибрать,
Крестом перечеркнув названье,
Закрыть ненужную тетрадь.
Теперь изнемогай от груза,
Терпи, душа, глуха, темна…
Пока не кончится война,
Обречена молчанью муза.
II
В убежища, подвалы, склепы, щели
Загнали жизнь, подсводы крепких стен
Чтоб слушать гул орудий, вой шрапнели
И дикие стенания сирен.
Запуганным ребенком бродит Муза,
Лепечет встречным что-то про свое…
Но нищая сиротка всем обуза
не до того теперь, не до нее.
Играть в солдатики любили дети,
У взрослых же игра совсем не та.
Все нежное, все светлое на свете,
заволокла густая темнота.
И в грохоте, захлебываясь дымом,
Все глубже уходя в глухую тьму,
Кто вспомнит о видении незримом,
О голосе, неслышном никому!
III
Cирены — исступленные кликуши —
Опять вещают городу беду.
Дрожащие испуганные души
Теснятся под землею, как в аду.
И Муза просит жалобно отсрочки,
Еще дыхания, еще пути,
Чтобы колеблемые бурей строчки,
Не разроняв, сложить и донести.
К чему, к чему! Судьбою безымянной,
Солдатскою судьбой награждены,
Мы все равно в пучине ураганной
Изчезнуть без следа обречены.
IV
Присядем, Муза, у огня,
У жаркой деревенской печки.
Не для тебя, не для меня
Горят рождественские свечки.
Из милости в чужом углу
Мы приютились втихомолку.
Ты смотришь в печку, на золу,
Я вспоминаю нашу елку.
…Мой дом покинутый далек,
В нем тьма ютится нежилая.
Взойду ли снова на порог,
Родные тени обнимая?
Нет, все сметет, сожжет война…
А ты молчишь, устав с дороги.
По радио плывет волна
Скрипичной праздничной тревоги.
Как потонувшей жизни зов,
Как голос из другого мира —
Над мертвым холодом снегов
Звенит нетронутая лира.
Звенит над нашей нищетой,
Над нашею судьбой суровой…
А ты молчишь. И голос твой
Едва ли я услышу снова.
V
Сорок градусов мороза,
Солнца тусклый красный свет.
В небе длится бомбовоза
Серебристый узкий след
Тело словно невесомо,
Льдинки стынут на глазах.
Далеко с тобой от дома
Мы затеряны в снегах.
Вновь летит стальная стая,
Нарастает грозный гул.
Елок чаща снеговая
Даст нам временный приют.
Муза чуть повеселела:
Пламень солнца так хорош!
Но пронизывает тело
Ледяной истомой дрожь.
Будет. Муза, вечер снова,
Будет печки пышный жар,
От кофейника большого
Лиловатый теплый пар.
И в синеющем квадрате,
Сквозь причудливые льды
Мы увидим на закате
Две огромные звезды.
От заката огневого
Заалеет снежный наст…
Будет, Муза, вечер снова,
Если Бог нам вечер даст.
VI
Все небо в огненных всполохах,
Все тучи багрянцем горят.
Под елями в снежных дохах
Малиновый стынет закат.
Тяжелою, дымной, кровавой
От фронта восходит луна
Жестокой военною славой
И муками отягчена.
И знаменем над зарею —
Двух рядом стоящих планет
Сверкает двойною игрою
Апокалиптический свет.
А ночью сияющим снегом
И россыпью звездной полна
Стоит над детским ночлегом
Полярная тишина.
Как нежен ангельски-белый
Деревьев узор кружевной
В саду на земле опустелой
В снегу под морозной луной.
Мне больно, Муза, от этой
Беспомощной чистоты,
Мне страшно от яркого света
Пророческой красоты.
Что значит она — мы не знаем,
Но сердце ранит она.
Как миру казаться раем,
Когда на земле война.
1939–1941
Ни прошлого, ни будущего нет.
Текущий день. Обычная работа.
В окне высоком зимний скудный свет
И время падает, как снег, бес счета.
Бежит, бежит печатная строка
Под мерное стучанье молоточка.
А в отдалении плывут века
Над убегающей в пространство строчкой.
Машинки пишущей привычный стук
И ритм высот для слуха недоступный —
Все замкнуто в один чудесный круг,
В котором миг и вечность совокупны.
1940
День вылуплялся из тумана,
Огромный, влажно-голубой,
Сияя синью океана
Над облачною скорлупой.
Какая странная свобода!
Одно сияющее дно
Наполненного светом свода
В моих глазах отражено.
Мой синий день, мой день бездомный,
Как сберегу, как затаю
От жизни трудной, жизни темной
Живую синеву твою!
Сейчас небесно-необъятный,
Во всей начальной полноте,
Ты расточишься безвозвратно,
Ты раздробишься в суете.
Еще останется дыханье,
Воды вечерней грусть и дрожь.
А ты во мглу воспоминанья
Виденьем тусклым уплывешь.
1941
В темных окнах шум неугомонный
Тянет в лиственную глубину
В теплой тьме за кровлею балконной
Ветка клена трогает луну.
В зарослях сирени — дрожь и вздохи,
Бьется сердце каждого листа.
В ветренном ночном переполохе
Снег летит с жасминного куста.
Много раз бывала ночь такая
С летнею усадебной луной.
Сада темного душа ночная
Изливалась музыкой глухой.
И осталось в памяти виденье:
Лампой комната освещена,
Душный ветер, шелест и смятенье
Из отворенного в ночь окна.
1939
Там зяблики в запущенном саду
Запели солнечными голосами.
Приникла птица к теплому гнезду
И смотрит восхищенными глазами.
На зелень глянцевую ветвей,
На трав дремучих пышные метелки,
А под сосной перенося иголки,
Стотысячный хлопочет муравей.
И жизнь кипит под солнцем горяча…
Лишь иногда. тая заботу,
Присядет птица быстрая с налету
На обгорелой груде кирпича.
И в памяти ее коротким сном
Мелькнет в зелено-солнечном тумане
Виденье смутное: был раньше дом
На этой выжженной до тла поляне.
1942