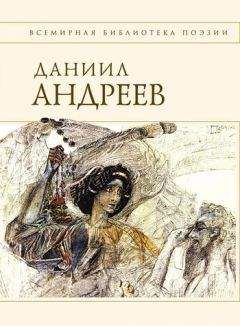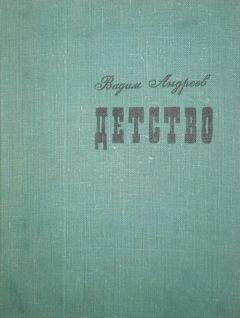«Тянет, как тянет ко дну…»[15]
Тянет, как тянет ко дну,
К перерытой земле.
Ущербный день прилег и пригнул
Зацветающий хлеб.
Точно высокая ступень,
Насупившийся лес вдалеке.
Согнувшаяся тень
На дорожном песке.
Не думать, что обойма остра,
Забыть прошуршавший приказ.
Переплетающиеся ветра
За краем прищуренных глаз.
А когда скажут: «в ружье»
И щелкнет знакомый затвор —
Не помнить, что вражеский бьет
Пулемет в упор.
«Я отступил под рваным натиском атак…»
Я отступил под рваным натиском атак
Гуди и плачь, разорванный провод.
Улиц надвигающаяся пустота,
Полночь — голодное слово.
Бетонный город на кресте рук —
Разве выдержит грудь эту тяжесть.
И стоит на голом ветру
Как у гроба Господнего — стража.
Но скоро фонарь-часовой
Задохнется от дыма и гари.
О боль разлившихся надо мной
Нерукотворных пожарищ!
Бейся, рук раздавленный крест,
Как под асфальтом поле ржаное.
Я полюбил в этой грузной игре
Невероятные перебои.
«Сегодня ветром лес не чесан…»[16]
Сегодня ветром лес не чесан,
Сегодня трава на суглинках желта.
Под разбежавшимся откосом
Гниет перевернутый танк.
Взойду по ступеням остывшим
Желтых дней в острог войны.
Только ночь и тучи крышей,
И чугунные сны.
Ржавый визг — это ветер в решетке
Запутался лохматой бородой.
И прошелся веселой чечеткой
Пулемет по стене жестяной.
Бей же, бей — эти дни — недели,
Эти ночи — пустые года. —
Снег пулеметной метели,
Скашивающий врага!
«Пусть век, изживаемый людьми…»
Пусть век, изживаемый людьми
На дне высыхающей лужи,
Пусть в новой малярии мир
И каждый год по-новому простужен,
Пусть трескаются мускулы болот
От надвигающейся суши.
Я полюблю гниющее тепло,
Ржаные и булыжные души.
И приемля грузный дар
Всем развороченным телом,
Пойму, что камень и слюда
Есть мир от мира онемелый.
«Сплетенные фабричные трубы…»[17]
Сплетенные фабричные трубы —
Перевитая огнем коса.
Припаялись асфальтовые губы
К дымным и рыжим волосам.
Улицы — промороженные щели.
Площадь — застиранный лоскут.
Мне кажется, что снег метели
Прикоснулся к моему виску.
Я заблудился в огненных афишах,
Точно в косматом лесу.
И все островерхие крыши
Качаются на весу.
И над городом — тысячи зданий
Взнуздали крутой разбег.
Подымает каменное молчанье
Новый каменный век.
Ленин («Весь мир, как лист бумаги, наискось…»)
Весь мир, как лист бумаги, наискось
Это имя тяжелое — Ленин — прожгло.
Желтый ожог и пламя ласкается
И жаром лижет безбровый лоб.
Глаз монгольских не прорезь, а просека —
Шрам и зрачки — ятаган татарвы.
Овраги и рвы и ветер просится
Под ноги лечь на болячки травы.
Прищурь глаза, мой пращур. Вытопчи
Копытами безлесые солончаки.
В праще — прощенье. Ты без запала выучил
Ломать князей удельных утлые полки.
А над степями тяжелых хлопьев хлопоты
И сквозь метель, над Каспием — заря.
И будит великолепным топотом
Века — твой доисторический октябрь.
Так медленно над мертвой пасекой
Встает весна и оживают мхи.
Не сын, а только пасынок, я только пасынок,
Я слушаю, как третьи прокричали петухи.
«Вот он, покой берложьей тишины…»[18]
Вот он, покой берложьей тишины.
Мир умирает распростертый.
Тяжелый вал с палубы смыл
Мертвых.
Но помню, помню крутой крен —
Борт в пена, борт и тучи.
Мачт и рей реющий крест
Над перепуганной кручей.
И снова внезапный залп.
Мертвецу не проснуться.
Помню средневековые глаза
Умирающей революции.
Десятилетие взметнувшейся волны —
Четырнадцать и двадцать четыре.
Теперь покой берложьей тишины
Тяжелые объятья ширит.
«В знакомой комнате пустая мгла…»
В знакомой комнате пустая мгла,
И в серой пепельнице пепел серый.
Привычный путь: от темного угла
До нескрипучей двери.
Железный ключ — закушенный язык —
Не повернуть — немыслимое бегство.
Лишь отчество со мной, слепой двойник,
Непреодолимое наследство.
Жизнь — за стеклом, за окном двойным.
Стекла — заплаканные щеки.
Заплесневелых улиц дым,
Как ненаписанные строки.
Привычный путь: лишь три шага. Молчу.
Мир за окном, как грузная громада.
Идут минуты: плечо к плечу,
Плечо к плечу — солдаты с парада.
«Обруч — мое косноязычье…»
Обруч — мое косноязычье.
Слова, как слипшийся комок.
О боль повторять по привычке
Только мертвую тень строк!
И точно плаха и пытка,
Скудных стихов тетрадь.
Душный, душный напиток
И пленные ветра.
Ночь — надоедливый нищий —
Снова, снова застой слов.
Напрасно бессонница ищет
Неповторимое слово — любовь.
Падай, падай тяжелым камнем,
Падай, падай на дно реки
Непобедимая память,
Черный, каменный крик.
«Там, наверху, широкоплечий день…»[19]
Там, наверху, широкоплечий день
Привязан к палубе тугим причалом.
Северный ветер — рваный ремень
Серое море — конь чалый.
Я вижу там только узкий люк
И грузных туч рваные космы.
Мне кажется, что пальцы черных рук
Точно корни выкорчеванных сосен.
Сорву с защелки тяжелый болт,
Сжимая мускулы и скулы.
О раскаленная, темная боль,
Ржавый трюм и борт сутулый.
Уйду на дно — свинцовый час, —
Глотая едкий дым и пену.
И кровь с разбитого плеча
К обугленным прилипнет стенам.
«Над морем мутная, тусклая мгла…»[20]
Над морем мутная, тусклая мгла.
Рыжий парус рвет облака.
Черную ночь надо мною дугою свела
Чья-то чужая рука.
Удар за ударом в смоленый борт.
Волна за волной взмет, взлет.
За высокой кормой большой багор
По воде с налету бьет.
За бугшпритом ночь черна.
Пенится пенный бег.
Ни одна звезда не видна,
Ни одна сквозь мокрый снег.
Мне навстречу холодный норд-ост
Бросает седые гребни.
Я, пьяный от ветра матрос,
Проглядел маяков огни.
[1923]
«Ледокол, ломая грудью льдины…»
Ледокол, ломая грудью льдины,
Всползает на полярные поля.
Костлявые, ледяные спины,
Преломляющие каждый взгляд.
Дрожат гитарой борта от пара —
Струны вант тронул дым.
Над кормой золотой огарок,
Трудный всплеск мертвой воды.
О, как режет седое сиянье
Налегший всей грудью мрак.
Жизнь — набухающее восстанье —
Сцепившиеся в реях ветра!
«Скупая тишина — голодный скряга…»[21]