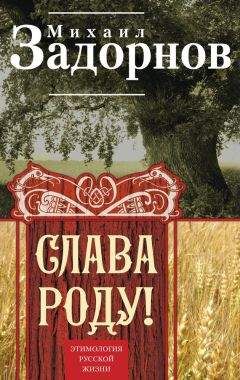Ознакомительная версия.
Печаль-ноябрь
Пронзительное солнце в ноябре;
Колтун из листьев катится, пыля.
Заплакать – и достать чернил скорей,
Но то – прерогатива февраля.
Безликой прозы суетная хлябь,
Ненужных строк докучная волна —
Печаль моя по имени Ноябрь;
Весь день твержу: печаль моя жирна.
Ворон к ворону летит…
А. С. Пушкин
Не летит больше ворон к ворону —
Ворон ворону люпус эст;
На суку сидит, смотрит в сторону:
Глаз не выклюет – просто съест.
Лейтенантик
Метит – в полковники,
Одуванчик
Грезит – в подсолнухи;
Время к старости
Да на пенсию:
Сединой подёрнешься,
Плесенью.
Знать, судьба тебе —
Подзаборником,
Не подсолнухом,
Не полковником —
Под высоким солнцем
Пускать ростки:
Хоть на три строки,
Хоть на две строки…
Среда, тринадцатое, осень,
И воздух сух.
Качаясь, в небе пишет «8»
Кленовый сук,
Последний лист стряхнувший с веток
В урочный час
Так, чтобы стало больше света,
А день погас.
Помнишь, листья неслись в потоке
И журавль стоял на камне?
Улетел давно… Эти строки
Я вдогонку пишу. Рука мне
Изменила: на снимке камень
И нога – журавля ли, цапли?
Из машины, в лиловой шали,
Вышла дама; под каблуками
Листья ёжились и шуршали.
С водопада летели капли;
Скверный кофе в кафе напротив
Обжигал; мы сахар мешали
Долго-долго. На повороте —
Сквер, скамейки; листья шуршали
И бесшумно падали в воду.
Журавля – или цапли? – не было;
Мокрый камень лежал тюленем.
Журавлю полагается – в небо,
Долго ждать неудачников лень им.
Помнишь, как по траве кругами
Бегал пёс – ярко-рыжий, тощий?
Шелестела листва под ногами
Цвета пса…
Помнишь листья в роще,
Где живут в октябре Жар-птицы
Цвета листьев, летящих листьев… —
Помнишь?..
Дождик тикал виновато
За насупленным окном,
Растекался полосатым
Жёлто-серым полотном.
На будильнике четыре.
Парка еле тянет нить…
То ль повеситься в сортире,
То ли кофточку скроить.
Непонятно, апрель иль ноябрь —
Небо пыльное, ветра свист,
И на ветке сухой, покарябанной
Бьётся ржавый, забытый лист.
Вянут губы, веки одрябли,
В чёлке ржавчина – или хна?
Не апрель, не апрель – ноябрь:
Желтизна, седина, хана.
Она пришла. Чего же боле?
Легла в дрожащую ладонь.
И сердце глупое от боли
Не лопнуло. Тихонько тронь
Рукою гладкую обложку,
Ещё чуть-чуть повремени,
Не открывай! Потом немножко
Обложки край приподними,
Скажи заветное: «Сезам…»
И просто – верь своим глазам.
Я не писал давно тебе, Гораций.
Ты сердишься? Но в той цивилизации
(а не в стране), где я теперь живу,
Нечасто происходят déjà vu…
Трава и воробьи – совсем как те,
Но у котов туземных нет когтей
И в области хвоста недокомплект,
Равно как у их лающих коллег,
Зато и лают мало.
Как там мама?
Ты ей приносишь свежие цветы?
Спасибо, милый. Если бы не ты,
То впору крест на кладбище поставить,
Прости за каламбур. Да и она ведь
Меня простила б…
Дивная страна!
Жестоковыйные – как прежде, в междуречье,
Но о своем не ведают увечье,
И слово «волапюк» им не знакомо:
Живут себе, как раньше жили дома,
Но только в неметрической системе.
Длину привычно измеряют в инчах
(за это я б судил в системе Линча),
А паунд – святая единица веса…
Почем «паунд» лиха, именем Зевеса?!
Таинственные пишут эпликэйшн,
Но чтут – как раньше, там – своих старейшин,
А чтоб удобней чтить, их селят вместе
В одном большом, едой пропахшем месте,
Которое зовется норсинг хоум.
Приедешь – я свожу тебя на холм,
Откуда виден город сквозь туман.
Мы встретим много их, идущих нам
Наперерез, навстречу, – по глазам
Жестоковыйного узнаешь ты, Гораций,
Да по печати рабства на челе.
От желчи собственной я даже захмелел,
Словно отведал горечи Фалерна.
Ты думаешь, не прав я? Да, наверно…
Пора прощаться. Строго говоря,
Мне нечего добавить, кроме vale, —
Поверь мне, что любое совпаденье
Имён, событий, дат et cetera —
Всего лишь опечатка,
как перчатка
Не с той руки. Под кончиком пера
Иль прямо на экране монитора
Такое возникает море вздора,
Что и не снилось вашим мудрецам,
И не приснится, милый мой Гораций.
Поэтому ты можешь не стараться
Распутывать ассоциаций вязь,
Чтобы найти таинственную связь
Событий-дат-имён того, кто с кем.
Ведь если в голове стихи роятся,
То это значит, что душа в тоске,
Не более. Такое мудрецам
Мы не доверим; я зову тебя «Гораций»,
Но кто ты, я уже не помню сам.
Сегодня хватит стансов, мой Гораций, а поутру я б
начал с танцев, чтобы нежных граций прибавилось
как минимум на две. Зачем, мой друг, косишься ты
на дверь? Ведь мы с тобой ещё не танцевали и вряд
ли потанцуем уж теперь, а жаль: есть в танго магия
полёта, паденья и власть руки, объятья страх и жажда,
поворот и – твоей щеки касанье в полуобмороке
звуков и каблуков; касание мощней, чем обладанье,
но хватит слов о том, как мы с тобой не танцевали…
Рояль закрыт, уложен саксофон, и полночь – утоли
моя печали – станцует сон.
Дождь и гроза, и серое стекло
Кривыми струйками заволокло;
Ты помнишь ли, насколько хороша
Тёмная звериная душа?
А коль забыл, то зверя позови —
И он придёт, но если изнутри,
То не завидую тебе я, друг Гораций;
Извне бы лучше… Вот под шум акаций
К тебе в квартиру входит Бегемот.
Возможно, он – галлюцинаций плод,
А может, воплощенье Сатаны —
Ведь в свиту входит… Впрочем, там равны
И падший ангел, и ещё один —
Может, палач, а может, паладин
Его, того же… Что же ты один?
Зачем к тебе нейдёт твоя подруга?
Обидел чем? Или другого круга?
Но, может быть, ей тоже одиноко?
(Нам не унять небесного потока).
Ей пусто в одиночестве; так что же
Ты здесь один? Ведь это не похоже
Так на любовь, как не похожа страсть на страх,
Как завтра не похоже на вчера.
Сидишь, отрезан от своей любви…
Губами имя милой назови:
Оно – любовь. Толпятся кров и кровь
Составить рифму; триединство слов —
Загадка, тайна; и не нам с тобой решить:
Не делится.
В остатке слово: жить.
Не верится?..
Я будущего времени глагола боюсь, как чукча лазера.
Давно, на языке божественном глаголя, кручусь я
в настоящем – как в кино, когда впотьмах сидишь
в казённом кресле и жизнь чужую бдительно
живёшь, своей наскучив; ведая заране, что всё,
что происходит на экране, отнюдь не в настоящем,
а в плюсквамперфектум (хорошо бы к нам слегка
от вас перфектума прибавить, лениво думаешь);
и спинка кресла давит; встаёшь и, тычась то ли
в стулья, то ли в пятки, с людским отливом к выходу
плывёшь, чужую жизнь оставив без оглядки, как тот
очаг, что на куске холста пылал вот так же пламенем
карминным, но не согрел бедняжку Буратино. Как
скучно, друг Гораций, мне в настоящем! Если бы
прокрасться назад, туда, в плюсквам-, но минус
к нам… Не думай, я не пьян и не болван, но мне
уютно нынче только в прошлом, как в плюшевом
фотоальбоме пошлом, где ворс обложки выцвел,
запылился, где дядюшка, смеясь, остановился,
уставившись на левую страницу – страницу, где
остались только лица, а имена, которые храниться
должны бы в памяти… Но память изменяет, как
моряку жена, хотя должна блюсти бы верность…
Да кому нужна та память, что всегда тебе верна?
Ведь булка пухлая воспоминаний нужна, чтоб
выковыривать изюм привычного и сладкого:
мечтаний стать доктором, и докторский костюм, из
наволочки сделанный умело, и тапочки, надраенные
мелом; трамвай с кондуктором, и шиндер на кобыле;
медведь, машинкой стриженный под нуль, как
новобранец; и портрет Кармен на мыле и пудре
маминой, флакон зелёный с «Шипром», бутылка
портера, открывшаяся с шипом, и обещанье мамы:
«Я приду, как только ляжешь спать, к тебе опять». Она
не приходила. Но не ждать её я не умел – и потому
всего, что в будущем, боюсь и не люблю, хоть слово
«мама» в прошлом. Я ловлю себя на том, как осторожно
строю фразу и достаю из кипы слов не сразу глагол,
чтобы не сжечь сердца людей, что ждут надежды,
времени подвластной лишь будущему. Белые одежды
мы обретём едва ль, ведь мы Е2 – Е4, как пешки,
жизнь по клеточкам ходили, а если б нам от них —
слегка перфектум… Прими поклон мой, прошлое, —
с решпектом.
Ознакомительная версия.