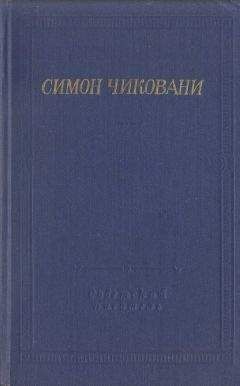При жизни Чиковани в русские сборники обычно включалось только одно его стихотворение этой поры — «Дорога», но и оно дает нам достаточное представление о поэтической работе Симона Чиковани 20-х годов:
По рельсам, по степи, по знойной долине,
не оскудевая, как свист соловья,
летит она, в свивах бесчисленных линий,
прямая, ночная дорога моя.
Республика правды, труда и свободы!
За свистом, за степью, за цепью колес
вот желтое небо в кустах непогоды
орлами за мной из-за гор понеслось.
…Ты, родина всех человеческих стран,
ты, родина радости, здравствуй, Россия!
Какими дорогами ни колеси я,
найду по морям, по полям, по кострам,
по горным тропам, за Азовом и Понтом
глаза золотые от хлеба твои,
и кожу, покрытую бисером потным,
и чащу, где льются в ночи соловьи.
Где рельсы и свищут, и льются, и стелют
огни по уже пролетевшим огням,
где конь мой Мерани ныряет в метели
в безжалостной жадности к будущим дням.
В этом стихотворении знаменательна, помимо всего прочего, и перекличка с грузинской классической поэзией, в частности с бараташвилиевским «Мерани», что, казалось бы, совершенно недопустимо для правоверного футуриста. Однако следует отметить, что характерные мотивы классической поэзии здесь не просто использованы, а своеобразно преломлены, видоизменены в соответствии с новой эпохой. Здесь и продолжение традиции, и полемика с традиционностью.
Стихотворение «Дорога» написано в 1927 году, то есть в пору, когда, по признанию самого поэта, он «почувствовал опасность отрыва от жизни, увлечения архитектоникой стиха» и «перешел на художественное отображение революционной борьбы в Грузии…».[6]
Эта новая творческая позиция отчетливо сказалась в «Дороге» и в хронологически примыкающих к ней произведениях. Но ориентация на классику давала себя знать и в более ранних опытах Симона Чиковани, хотя там ориентация эта была довольно односторонней. В своих ранних опытах оркестровки стиха поэт опирался не столько на футуристическую традицию Хлебникова, Каменского и Крученых, сколько на некоторые структурные элементы грузинского (и в частности, мегрельского) фольклора, на некоторые характерные особенности поэтики грузинского поэта XVIII века Виссариона Габашвили (Бесики). Сам поэт не без основания сближал свои стихотворения того периода «Хабо» и «Карбория» со стихотворениями Бесики «Тано татано» («О, статный стан») и «Шавни шашвни» («Черные дрозды»). В попытках Симона Чиковани тех лет восстановить в грузинской поэзии связь с поэтами XIX века сказалась полемическая антисимволистская направленность, поскольку, с его точки зрения, в поэзии грузинских символистов на определенном этапе «никак не выявлялись характерные особенности Грузии, даже ее природы. Я пытался восстановить в своих стихах стихотворную культуру Нико Бараташвили и Ильи Чавчавадзе. Эти мои опыты, однако, не характеризовались созданием стилизованных стихотворений, хотя путь моих поэтических исканий и был чисто формального порядка».[7]
Как мы уже знаем, с середины 20-х годов Симон Чиковани решительно отказался от такой чисто формальной экспериментаторской установки и начал искать новые, реалистические пути в поэзию. «После поэмы „Судьба — Республика“, — писал он позднее, — я решил еще шире отобразить современную тематику и с этой целью предпринял ряд поездок по горам и долинам Грузии. С двадцать седьмого года по тридцать третий год я месяцами оставался в колхозах, на предприятиях и в малодоступных уголках Сванетии, Хевсуретии, Пшавии и Аджаристана, и я полагаю, что за это время моя поэзия претерпела коренные изменения…»[8]
И действительно, если в 20-е годы даже лучшие образцы лирики Симона Чиковани носили в какой-то степени отпечаток абстрактности и умозрительности, то последующие поиски поэта привели его как раз к большей конкретизации образов, к подчеркнутому эпизму описания и рассказа, даже к чрезмерной порою прозаизации стиха (не случайно, что в эту пору Симон Чиковани выступает часто и в качестве автора оригинальных очерков). Как сильно отличаются, например, по своей поэтике от «Дороги» уже первые строфы стихотворения Симона Чиковани «Вечер застает в Хахмати» (1931).
Вот уж на тропах видим: хевсуры.
Значит, в предгорьях конец пути.
Завтра возьмем мы хребет темно-бурый, —
легче сказать о нем, чем перейти.
Вечер навстречу — идем, нахмурясь,
усталость качает, шли дотемна.
В Хахмати стали у Алудаури,
Кудиа будет хозяин наш.
Плоская крыша. Овчины горою.
Хахмати! Водкой полощем рот.
Об этом гнездовье древнем героев
достойную Кудиа речь ведет.
Это стихотворение, так же как и другие стихи этого периода («Комсомол в Ушгуле», «Стада в Рошке», «Сванская колыбельная», «Девушка из Рошки», «По следам Важа Пшавела» и др.), знаменует собой успешное движение поэта к полнокровному реалистическому изображению современности. Это еще не была пора окончательной зрелости, но перед Симоном Чиковани уже открылась широкая и прямая дорога к новым вершинам мастерства, тот этап в его творчестве, о кануне которого прекрасно сказал сам Симон Чиковани в одном из своих лирических шедевров:
Юность, молодость, зрелость…
Лежит между вами граница —
краткий миг передышки,
смущенья и смутных забот.
…Этот миг наступил —
и сомненье меня охватило:
если пальцы мои
обожжет догорающий трут,
значит, пламя иссякло,
остались одни лишь чернила, —
но они без огня
на странице строку не зажгут.
…Юность, молодость, зрелость…
Лежит между вами граница —
время тайных раскаяний,
смутных тревог и забот.
Это время пришло.
Снег валится всё гуще и гуще.
Он растает еще.
Но сегодня долина бела.
Я хочу, чтобы жизнь
уподобилась ниве цветущей,
чтобы нивой в цвету,
а не сломанной веткой была.
Сети трудных раздумий
в житейское море закину:
поздней ночью, в слезах,
я на милую землю пришел —
и поэтому с песней
подняться хочу на вершину,
как бы ни был мой путь
утомителен, долог, тяжел.
Как видим, поэт в трудную минуту обращается за помощью к родине, к жизни, к действительности. И надежды его в полной мере оправдались. Бурный поток жизни, расцвет советского общества помогли поэту избавиться от «смущенья и смутных забот», дали новый размах его творчеству, его поэтическим исканиям.
Вот что писал Симон Чиковани о значении этой поры для него и для всей советской литературы: «…по моему глубокому убеждению, для нашей литературы — как и для моих ровесников, так и для поколения более старшего — особо значительными были тридцатые годы. Как раз в начале тридцатых годов, столь богатых бурными событиями в жизни страны, ознаменованных глубочайшими процессами коренной перестройки всего ее уклада, действительность властно вторглась в творческую жизнь моего поколения, внесла в нее свои коррективы, обновила ее, изменив многие и многие мои представления о сущности и назначении, о подлинной революционности и подлинном новаторстве поэзии. Многие мои духовные склонности и потребности — тяга к просторам, к путешествиям, жадный интерес к жизни различных уголков моей родины и к жизни других народов — получают в эти годы новый, глубокий и конкретный смысл, точную целенаправленность. В плане творческом — это был верный путь к реализму»[9].
Такую эволюцию претерпела в 30-х годах и поэзия Симона Чиковани. Именно в эту пору проявляется дарование Симона Чиковани как прекрасного пейзажиста и жанриста. Именно в эти годы оттачивает поэт и самый любимый свой поэтический инструмент — яркий метафорический образ. Но кроме расширительного значения слова «образ», охватывающего весь мир поэтической выразительности (включая интонацию и мелодику стиха), существует и более узкое его толкование, при котором образность предполагает живописность, картинность, зрительную ощутимость, изобразительность стиха и его метафоричность. Вот область, в которой Симон Чиковани может смело состязаться с любым из своих поэтических собратьев. Он полностью владеет уменьем открывать в предмете новые и новые грани, видеть его не в одной плоскости, а во всех измерениях. Для Симона Чиковани предмет, явление — источник бесчисленных ассоциаций, они питают и мысль и чувство, и мечту и воспоминание, рождают и острое умозаключение, и глубоко драматизированное переживание.