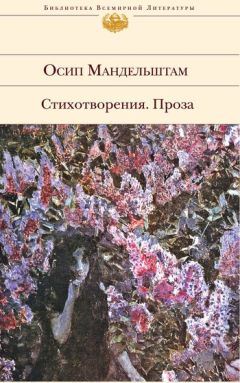достали чернильницы и гусиные перья и стали записывать. В перерыве вынули деревянные миски, накрошили в них хлеба и луку, залили квасом и стали хлебать тюрю деревянными ложками, распевая „Лучинушку“» [12]. Это были Михаил Красильников, Юрий Михайлов и старший брат Александра Кондратова – Эдуард. Поэты ложились поперёк мостовой на Невском проспекте, прыгали в Неву с моста, кричали в колонне демонстрантов антисоветские лозунги. Середина 1950-х годов – время первых хэппенингов, карнавала приближающейся оттепели, время выхода на улицу – поразить людей, время бьющей через край социальной энергии, неотделимой от поэзии (вспомним чтения у памятника Маяковскому в Москве). Ничего подобного в компании «арефьевцев» не происходило. Перед нами будто встают два города: один – солнечный Ленинград в ожидании перемен, с дружинниками, стилягами, демонстрациями, жизнью нараспашку. И другой – такой, каким он предстаёт в работах Арефьева, Васми, Шварца, в стихах Роальда Мандельштама.
Это город страхов, преступлений, адского быта и одиноких восторгов. Город с тайным, замкнутым кругом, «башнями крепости», художниками, нацеленными только на работу. Именно с работой связано проникновение в среду «арефьевцев» наркотиков: некоторые препараты, продававшиеся в аптеке без рецепта, позволяли трудиться долго и без устали, не обращая внимания на внешние обстоятельства.
Итак, необычайная интенсивность внутренней жизни, работы, и тут же рядом – «проходной двор», «дым коромыслом». В «богеме у Мандельштама» соединились разные черты его поколения: рядом с бездомностью и сиротством – подпольная хитрость, агрессия, надломленность, но и жажда общения и творчества.
Что же было в основе дружбы в «арефьевском круге» – и что притягивало круг «внешний»? Общие интересы, художественные установки, необходимость поддержки перед лицом враждебного мира? Разумеется, но не только это. «Друзья – это наичестнейшие из соперников и наиблагороднейшие из врагов», – запишет в дневнике Рихард Васми. Каждый здесь был значительной личностью и силы притяжения уравновешивались силами отталкивания. Спор, соревнование – вот важнейшая основа дружбы «арефьевцев». Художники нередко брались за общие сюжеты (так появилась знаменитая «Банная серия» Арефьева). «Была группа художников – моложе нас – её организовал такой Михнов-Войтенко. Они назывались «Шагалята», из-за любви к Шагалу. И Алька собирался дать им бой, и мы все тоже с ним. Но так до этого и не дошло. А Алька вообще – спорщик искусный. Мог на лопатки положить Цицерона», – вспоминает Рихард Васми. Эпоха и места, по которым бродили «арефьевцы», не исключали и прямых конфликтов: Громов говорит о грандиозной драке, в которой он участвовал вместе с Арефьевым. Гудзенко рассказывает, как Роальд Мандельштам в 1953 году, услышав в набитом трамвае антисемитскую реплику, немедленно полез драться.
Для понимания дружбы «арефьевцев» существенно их общее увлечение античностью, занимающей столь важное место в поэзии Мандельштама. Плутарх был любимым чтением Васми и Громова. Влияло это и на творчество (поэзия Мандельштама, античная серия Арефьева), и на жизненные установки, на поведение. Например, в истории, рассказанной Васми о стихотворении «Клубок домов и ком заката…» (Васми позвал Мандельштама на ужин, но зарплату задержали, ужин не получился, и Васми убежал с чёрного хода), проглядывает рассказ Плутарха о том, как Помпей бежал из собственного дома, чтобы не давать прибежища Цицерону – не случайно Цицерон упоминается Васми рядом с именем Мандельштама. Но гораздо важнее античный подтекст высказывания Васми о дружбе. Слова о наиблагороднейших из врагов и наичестнейших из соперников отсылают к античному понятию дружбы. Подлинную дружбу здесь нелегко отделить от культа дружбы-соревнования. Именно это и поддерживалось всей компанией и особенно Мандельштамом. Рихард Васми в беседе со мною высказывался определённо: «Стихотворение „Другу“ („Когда в бою покинут силы…“) ни к кому конкретно не обращено. Вообще дружбы настоящей не было. Были товарищи. Был культ дружбы… Строгие отношения были, иронические, он подкалывал. Только к Шале (Шолому Шварцу. – Б. Р.) он относился по-другому, почтительно: Шаля мог, например, критиковать его стихи, и он прислушивался, а он Шалины работы – нет. Это были скорее идеальные представления о дружбе, литературой навеянные…».
В искусстве «арефьевцев» объединяла не столько общность вкусов, сколько установка на интенсивность переживания как жизни, так и культуры. Поэтому разброс художественных вкусов в компании был достаточно велик. «Камертоном» оставался единственный поэт – Роальд Мандельштам. Владимир Шагин вспоминает: «Поэзия играла огромную роль в нашей компании. Прежде всего – поэзия Алика Мандельштама. И та поэзия, в основном, романтическая, которая приходила к нам через него. В то же время вкусы самого Алика были очень строгие, даже классические. «Самое лучшее, что я знаю, – говорил он, – это «Маленькие трагедии» Пушкина». И это – несмотря на искреннее восхищение блатными песнями, разного рода псевдоромантическим поэтическим вздором. В какой-то степени это относилось и ко вкусам нас самих» [13]. Соединение «Маленьких трагедий» и блатной песни очень ярко характеризует стиль «арефьевцев», как в поэзии Мандельштама, так и в работах его друзей: стремление к крайней, обострённой выразительности и ориентация на классическую строгость. Вот что говорит Рихард Васми о живописных пристрастиях Мандельштама: «В живописи разбирался хуже, чем мы. Вначале любил Врубеля, Борисова-Мусатова. Любил импрессионистов, Петрова-Водкина. Была в художественных вкусах склонность к литературщине, как это часто бывает у поэтов и писателей. Пюви де Шаванн мог ему нравиться больше, чем мне или Ареху. Ван Гога мог недооценивать. К Гогену был интерес. Из нас ему ближе всех был Шаля». Мандельштам тоже пробовал свои силы в живописи; в письме 1958 года из больницы он просит Громова купить «1–2 холста «золотого сечения» на подрамниках, кисти (сам знаешь какие), фарфоровую палитру, мастехин и коробку темперы (весь набор, а белил три тюбика)». Рихард Васми: «У Альки были музыкальные и живописные способности, но он нацелен был в одном направлении и не отвлекался особенно».
В музыкальных, как и в поэтических вкусах, Мандельштам был «правым» крылом компании: «Алька очень любил классическую музыку. К джазу, в отличие от Гудзи, и от Лерки (Титова. – Б. Р.), и от меня был равнодушен. Ходил в гости, там слушал музыку на проигрывателях, в филармонию. Радио у него не было» (Рихард Васми). О живописности стихов Мандельштама говорится много, но, похоже, он интерпретировал свою поэзию более в музыкальных категориях: многочисленные ноктюрны, романсы, цикл стихов «Три форте», где стихотворения имели подзаголовки: op(us)1, op. 2 и т. д.; «Соната», «Канон», «Увертюра», где слова подражают музыкальным фразам, в конце концов его альбы и сирвенты – тоже жанры песенные.
К весне 1953 года относится знаменитая история, связанная со стихотворением, известным как «Серебряный Корвет» (или «Себе на смерть»):
Когда я буду умирать,Отмучен и испет, —К окошку станет прилетатьСеребряный Корвет.Он бе́ло-бе́режным крыломЗакроет яркий свет,Когда я буду умирать,Отмучен и испет.Потом придёт седая блядь —Жизнь(с гаденьким смешком),Прощаться.– Эй, Корвет, стрелять!Я с