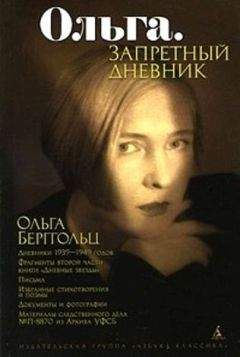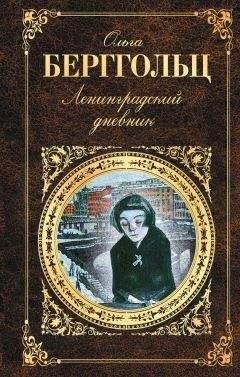Искали ее упорно. Настроение у всех было подавленное. Бурака заподозрили в том, что он ее… убил.
П. П. тогда подает мысль (сам Бурак сейчас говорил), что она «попала в худой след». В след, оставленный нечистой силой. Если попадешь в этот след, нечистая сила тебя закружит, толкнет на смерть, иногда на злодеяние — в общем, на гибель.
Она говорила ему об этом с той же непоколебимой самоуверенностью, как в райкоме о чем-либо. «Надо поворожить, спросить у одной женщины». «Дали задание» этой женщине, — колдунье, живущей рядом с Бураком. Она вообще каждый вечер ходит под мост и там ворожит. Вот она под мостом поворожила, «доложила» Земсковой о результатах. Земскова сообщила фельдшеру: «Я знаю, — она здесь и отыщется». Затем нашли врачиху: повесилась в лесу, около озера. «Вот видите, — сказал парторг села, — я говорила! Отыскалась… А что задавилась, в худой след попала».
В худой след верят здесь твердо.
Мы писали — со слов Юрки! — о том, как она любит мужа, а оказывается — он женился на ней по принуждению, бивал ее, уходил от нее и т. д.
Тогда она сходила к бабке, поворожила, «взяла у нее средств». Это было уже после войны. Сейчас живут лучше, по крайней мере он перестал рыпаться.
Смешно, в общем.
Все, вместе взятое, — почти неправдоподобно.
Вообще минутами мысль, что все это похоже на сон. В особенности — оттого, что никак не могу поверить, что наяву вижу эти снившиеся, волшебные русские просторы, и обрыв сегодня точь-в-точь такой, как в Глушине, на мельнице в Запольске, где мы ловили стрижей… И девочка, беленькая Зоя Алексеевна, учительница 22 лет, на год старше Ирки, водила меня на точь-в-точь такой же обрыв над омутом, окруженный курчаво-зелеными и сине-голубыми просторами, и прыгала по краю обрыва, засовывала руку в стрижовые норки и кричала с детским восторгом:
— Ой, О. Ф., рука по локоть ушла, а ни до чего не добраться! Вы подумайте, как глубоко, а?
Господи, верю радости твоей… Верю радости твоей и хочу жить и быть…
Завтра еду. Слава богу, ссылка кончилась. Жаль только уходить от просторов этих, холмов, озер и омутов…
27/V-49
Земскова говорит — рассказывая о вчерашнем заседании в Крестц<ах>: «Она ставила вопрос в сторону Ив. Мих. по части производства, а у него получился вопрос больше в сторону ее выступления»… «Она не ставила вопрос в продолжительности данного момента времени»[186].
Инвалид (кот. ее слушает):
— A-а! Все понятно!
Несчастные люди!
Этот инвалид-бухгалтер в строчке. Алексей Михайлович Митькин. Коренной старорахинский, образование низшее, но потом как-то поднаторел на бухгалтерии. Воевал, сыновья тоже.
— Мы все впятером воевали. Под старшим сыном 13 танков сгорело, в Сталинграде.
Они с Земсковым выпили за завтраком, он пошел говорить…
Ногу ему оторвало в 41 году в Пушкине. Лежал всю блокаду в ленинградском госпитале, в университете. В общем, как и все, всё понимает, только говорить боится.
Однако сказал, например:
— Я за что правительство ругаю? Почему от меня пенсию забрали? Мне ее, может, и не нужно в денежном выражении, пусть она мне как воспоминание будет, — что вот, тов. Митькин, участвовал ты в Великой Отечественной войне, пролил кровь, — мы это помним, и ты помни… Нет, отобрали… Так вот иногда идешь на озеро по рыбу, растянешься на своих костылях, и тут уж все как-то сразу вспомнишь, — ну и почнешь и в родину, и в правительство…
О Сочихиной сказал:
— Сочинения у нее с некрасовским духом. Она это больше всего Некрасова обожает. Ну так оно и верно, жизнь такая… некрасовская… А вам, извиняюсь, наверно, тоже рамки ставят? Правды-то ведь не пишут. Не думаю, чтоб сами писатели к неправде стремились…
Я была очень выдержанна, хотя две-три либеральные фразы сказала, а он все понял — очень остался доволен беседой.
Женщина идет,
и все темнее
Вслед за ней ложится борозда,
И звезда, звезда горит над нею,
Ржавый Марс, тяжелая [неженская] звезда…
Несытый [Голодный] [Кровавый] Марс горит над полем…
И видно все ясней, все боле
(Когда померкнешь ты, когда?) труда
Багровый [Бесплодный] Марс горит над полем
Всегда несытая звезда
Еще голодная.
И вот все явственней, все доле
Стоит [Горит] [Встает] несытый навсегда
Багровый Марс над синим [русским] полем,
Давно бесплодная звезда.
Валдай — родина знаменитых бубенцов.
Колыбель бубенцов знаменитых
Тех, поющих [звенящих] по-русски, навзрыд,
Тех, что могут и петь и рыдать,
Валдай — рыдай.
Тот же Митькин говорил:
— Мы все же думаем, что при Ленине было б иначе… Он, конечно, говорил, что можно в одной стране. А вот Бисмарк[187], кажется, говорил: если уж надо строить социализм, то надо взять страну маленькую, с небольшим народом, — в общем, такую, которой не жалко… н-да… а мы размахнулись на одну шестую часть мира, ну, где ж тут… н-да… Конечно, кто ж против этого строя возражает, но ведь жить-то хочется… н-да… Ну, это верно Миша Калинин[188] говорил, — на ошибках учимся, а может, в маленькой стране и ошибки были бы помене, ну и народу меньше пострадало бы… н-да…
Совершенно просоветский инвалид.
Коля быстро сказал: «Про войну читать люблю».
— Что ж ты, не навоевался? Ведь сам был на войне.
— Ну, кака это война. Я люблю про настоящую, где героизм и подвиги.
[И пока не наступит] конец
Расступись-ка, дорога, раздайся,
Снова в сердце звучит бубенец.
Бубенец серебристый валдайский.
Плачет в сердце [песне] моем бубенец,
Плачь же в песне моей, бубенец,
Бубенец, бубенец, бубенец.
ЗАПИСИ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЛИСТАХ ОКТЯБРЬ 1949 года
Предсельсовета Елена Михайловна читает «Говорит Ленинград», — какими словами говорит она мне о нем, — простая женщина, далекая от лит-ры. Я могла бы быть истинно народным поэтом, если б не этот гнет, — и я была им во время войны, и я могу, — могу писать.
Свободы! Свободы от ревности, от любви, от него…
31/Х-49
Были неск. дней в Ленинграде. Уезжала туда на большом подъеме: по-настоящему, по-настоящему пошли стихи, чудесно было с Юрой, — «чудовище» вдруг притихло, и северное сияние полыхало.
В Ленинграде было много суеты, и жизнь текла бессодержательно и в общем мучительно для сердца. Наш день, 26/Х, мы провели хорошо и любовно. На другую ночь вдруг вспыхнул скандал, — я перечла переписанное мною письмо Бычкова[189], все залило внутри ядом, опять подозрения, опять одна боль. Ночь была ужасной, наговорили друг другу бог знает чего, встали разбитые, измученные, с ясным ощущением трещины, но все же решили поехать сюда.
Перед скандалом приходил Волька[190], — сказал, что ПБ получила задание — доставить компрометирующие материалы на «Говорит Л-д»[191]. Дело в том, что все наше бывшее парт-рук-во во главе с Кузнецовым[192], Вознесенским[193] и т. д. — посажено. Сначала сняли (это произошло вскоре после смерти Жданова), нам объявили — противопоставление Л-да Москве, без спросу организовали оптовую ярмарку, подделали перевыборы, обогащались за народный счет и т. д. В общем, «отец»[194] выразился — «вроде зиновьевской оппозиции»[195]. (?) Отправили их на учебу, — а недавно пересажали всех, решительно всех — «антипартийная группа, связанная с Югославией». Теперь в Л-де массовые исключения из партии, аресты (много у нас в Союзе) — директива — ликвидировать все, связанное с этой группой, в особенности по части идеологии.
И хотя у меня нет ни единого имени из этой группы в моих книгах, а не то что «восхваления» их, хотя красной нитью через все мои стихи проходит идея единения Л-да с Родиной, помощи Родины Л-ду, хотя «Лен. поэма» посвящена только этой идее, — не будет ничего удивительного, если именно меня как поэта, наиболее популярного поэта периода блокады, — попытаются сделать «идеологом» ленинградского противопоставления со всеми вытекающими отсюда выводами, вплоть до тюрьмы. Такой «идеолог» должен быть, и его «сделают». Видимо, уже идет работа.
В день отъезда Юра прибежал из из-тва дико взволнованный и сказал, чтобы я уничтожила всякие черновики, кое-какие книжонки из «трофейных», дневник и т. д. Он был в совершенном трансе — говорит, что будто бы услышал, что сейчас ходят по домам, проверяя, «что читает коммунист», т. е. с обыском. Кроме того, откуда-то запрашивали изд-во, — какие из моих книг, Саянова[196] и Прокофьева — изданы.
Меня сразу начала бить дрожь, но вскоре мы поехали. Ощущение погони не покидало меня. Шофер, как мы потом поняли, оказался халтурщиком, часто останавливался, чинил подолгу мотор, — а мне показалось, — он ждет «ту» машину, кот. должна нас взять. Я смотрела на машины, догоняющие нас, сжавшись, — «вот эта… Нет, проехала… Ну, значит, — эта?».