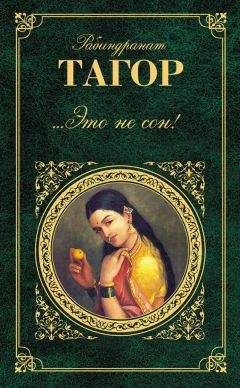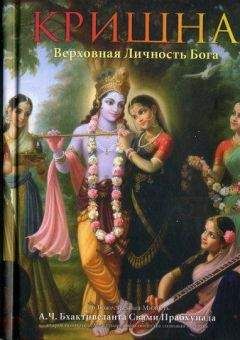Первое богослужение
Храм властителя трех миров…
Говорят, Вишва Карма, божественный зодчий[87],
Воздвиг этот храм в незапамятные времена.
Камни таскал для него Хануман, царь обезьяний[88].
Сочиненья ученых историков нас убеждают,
Что храм своему божеству построило племя
киратов[89].
Раджа воинственный некогда край покорил.
Кровью жрецов обагрил он святилища двор.
Божество сохранилось, новое имя приняв,
Под покровом обрядности новой.
Тысячелетнего поклоненья поток вспять повернул,
Но кирату теперь недоступна святыня:
Неприкасаемые не смеют войти в этот храм.
Ныне кират, – от общины отторгнут, —
В селенье своем, на восточном живет берегу.
Он – поклонник без храма, но есть у него
песнопенье.
У кирата искусна рука, безошибочен глаз.
Он – мастер каменной кладки.
Врезать в медь он умеет серебряные цветы,
Изваять божество из черного камня.
Государь – не защита кирату.
У него отобрали оружье и знаки почета,
Книжную мудрость ему изучать не дано.
На небосклоне кират различает главу золотую
Остроконечного храма,
Издали кланяясь ей.
Полнолунье в картике[90] месяце, празднество в честь
Первого богослуженья.
Флейты поют; мриданги, тарелки гремят
на подмостках
Стоят на равнине шатры.
Кое-где развеваются флаги.
Вдоль обочин дороги разложили торговцы товар:
Медная утварь, серебряные украшенья, шелка,
Изображенья богов,
Деревянные домору, куклы из глины и дудки
из листьев,
Дары божеству – плоды, плетеницы, куренья,
Светильники и сосуды крохотные со святою водой.
Зазывно болтая, дает представленье штукарь.
«Рамаяну» сказывает неподалеку рассказчик.
Конная стража с оружьем, в одеждах блестящих,
кругом разъезжает.
Царский сановник под балдахином сидит на слоне.
Трубит в трубу, впереди выступая, прислужник.
Хозяйку богатого дома
В паланкине, парчой занавешенном, слуги несут.
Нагие саньяси – отшельники, – с пеплом на лбу
и всклокоченными волосами,
У подножья баньяна расположились гурьбой.
Женщины к их ногам складывают приношенья:
Сласти, плоды, молоко, рис, топленое масло.
Время от времени гул небеса потрясает —
Гремит славословье властителю трех миров.
Завтра первое богослуженье:
Астрологи благоприятный наметили час.
Раджа великий приедет на царском слоне.
Вдоль дороги висят на деревьях
Плетеницы душистых цветов.
Пять манговых листьев кувшин украшают
священный.
Дорожную пыль то и дело кропят ароматной водой.
Тринадцатый день луны склонился к закату,
Отгремели в святилище гонг, барабан, литавры,
Первой стражи конец возвещая,
Пеленою подернулся месяц.
Лунный свет, как сквозь дымку беспамятства,
кажется мутным.
Воздух столь неподвижен, что дым в небесах
повисает.
Деревья объяты тревогой! Где-то жалобно воет
собака.
Кони ржут и прядут ушами, в сумрак уставясь.
Вдруг под землей, глубоко, раскатился путающий
гул,
Будто демоны бьют в преисподней в боевые свои
барабаны,
Раковина и гонг оглушительно в храме гремят.
Путы свои разрывая, взревели слоны —
И врассыпную пустились, как вихрем гонимые
тучи.
На земле бушевал ураган.
Буйволы и верблюды, коровы, овцы и козы
В смятенье бежали стадами,
Тысячи жалобно стонущих ошеломленных людей,
Точно в тумане, метались, друг друга топча,
Не различая своих и чужих в ослепленье.
Дым повалил, с треском земля раскололась,
Извергая кипящую влагу.
Ближнее озеро мигом ушло в песок.
Колокол в храме, на башне его островерхой,
Вдруг закачался со звоном – дон, дон…
Грохот обвала внезапно раздался и смолк.
Замерло все…
Полнолунье почти наступило. К западу стала
склоняться луна.
Дым от горящих шатров кольцами к небу стремился.
Лунный свет обвивая, подобно удаву.
Утром плач об умерших звучал повсеместно.
Царские воины храм оцепили,
От оскверненья святилище оберегая.
Прибыл царский министр,
Пришел звездочет-прорицатель,
Явился ученый – хранитель мудрости древней.
Их взорам открылось наружной стены разрушенье
И – над подножьем статуи – кровли пролом.
Ученый сказал: «Если к будущему полнолунью
Храм не поправим – отсюда уйдет божество,
Покинув свое изваянье».
Раджа велел отстроить разрушенный храм.
Тогда отозвался министр:
«Киратам одним по плечу возвести эту стену.
Но как божество уберечь от их оскверняющих
взглядов?
А если величье господнего тела нельзя соблюсти —
Что толку тогда восстанавливать храм?»
Явился на зов предводитель киратов, Мадхоб.
Бел и чист на седины наброшенный чадор.
Старое тело с медным отливом до пояса обнажено.
Желтою тканью повязаны бедра.
В глазах – доброта и смиренье.
У ног повелителя он рассыпал жасминовый цвет
И отвесил поклон осторожно,
Прикосновеньем своим осквернить опасаясь.
Раджа кирату сказал: «Храма без вас не поправить!»
«Милостью божьей взысканы мы!» – ответил
Мадхоб,
И святилищу он поклонился.
«Работать придется с повязкой тугой на глазах,
Чтобы статуи бога твой взор не коснулся.
Сумеешь ли?» – молвил раджа.
И ответил Мадхоб: «Обитающий в сердце
Всевышний
Поможет мне внутренним оком увидеть свой труд.
Работая, глаз не открою!»
Стену из камня снаружи возводят кираты.
Трудится в храме Мадхоб,
Святилища не покидая ни ночью, ни днем,
Глаза ему наглухо черным платком завязали.
Поет, размышляет, а пальцы работают споро.
«Быстрее, быстрее! – торопит Мадхоба министр. —
Дни за днями бегут. Упустишь назначенный срок!»
Ладони сложив, отвечает Мадхоб: «Торопить
Дано лишь тому, чьей воли я исполнитель!»
Минуло время ущерба луны, и стала она
прибавляться.
Подобно слепому, беседует с камнем на ощупь
Мадхоб,
И камень ему отвечает.
Стражник следит неусыпно за старым киратом,
Чтобы с глаз не сорвал он повязку.
Явился ученый: «Одиннадцать дней истечет,
И благоприятное время для богослуженья настанет.
Закончишь ли к этому сроку работу, старик?»
«Мне ли давать обещанья? – с поклоном ответил
Мадхоб. —
Когда снизойдет благодать – извещу, а дотоле
Посещенья – лишь делу помеха».
День шестой миновал, а за ним и седьмой.
Лунный свет, через дверь проникающий в храм,
Ложится на белые кудри Мадхоба.
…Солнце зашло, и бледное небо луна осветила.
Исполнилось ей от рожденья одиннадцать дней,
Вздохнув глубоко, посылает кират стражника
с доброю вестью:
«Кончил работу Мадхоб. Не упускайте
благоприятного часа!»
Стражник уходит. Срывает повязку старик.
В двери святилища лунный вливается свет,
Озарив божества изваянье.
Стал на колени Мадхоб и молитвенно руки сложил.
Слезы струятся из глаз.
Богу в лицо он глядит неотступно.
Впервые за тысячу лет увидел поклонник
свое божество.
Владыка в святилище вошел.
Мадхоб головою склонился к подножию статуи
бога.
Меч обнажил раджа и голову разом отсек.
Это – первая жертва была божеству и последний
поклон.
Модхумо́нджори[91] и вьющийся жасмин
Десять лет прожили тело к телу
И на трапезе из утренних лучей,
Расправляя листья, повторяли:
«Вот и мы!»
Между веток их была борьба
Вечная за обладанье местом,
Но она в их душах никакой
Злобной черноты не оставляла.
Но однажды в неблагоприятный час
Тот жасмин, не знающий сомнений,
Неразумно ветку протянул
К сети тонких нитей из металла,
Не поняв, что те – другой породы.
Но в конце срабона в небесах
Груды белых облаков собрались
И на шаловый спустились лес.
Сразу утро золотистым стало,
Охмелел жасмин в своих цветах,
И вокруг покой и мир царили,
И от перелета гулких пчел
Шефали дрожала тень живая.
В полдень голубь там заворковал,
Все вокруг объято было негой.
На закате в день осенний тот
В облачках игра возникла красок,
И тогда-то появились там
Лампы электрической друзья.
И глаза их кровью налились,
И жасмин им дерзким показался:
Как он смел ненужностью своей
То затмить, что так необходимо.
Острый крюк забросили они
И цветы жасмина оборвали;
И тогда лишь осознал жасмин,
Что те ниточки – другой породы.