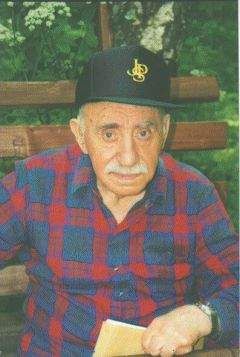1977
На току — молотильщик у горной реки,
Остывает от зноя долина.
"Молотите, быки, молотите, быки!" —
Ударяя, свистит хворостина.
И молотят снопы два усталых быка,
Равнодушно шагая по кругу,
Пролетают года и проходят века,
Свой напев доверяя друг другу.
"Молотите, быки, молотите, быки!" —
Так мой праотец пел возле Нила.
Время старые царства втоптало в пески,
Только этот напев сохранило.
Изменилась одежда и говор толпы, —
Не меняется время-могильщик,
И все те же быки те же топчут снопы,
И поет на току молотильщик.
1977
Я иду навстречу соснам
Тихой улицей в лесу.
За сараем сенокосным
День разлил свою росу.
Перебежчик-кот мурлычет
Обо всем и ни о чем.
Город хвойных здесь граничит
С человеческим жильем.
За единственное яство
В простоте благодаря,
Здесь, в лесу, не хочет паства
Пастыря и алтаря.
Я вступаю в город хвои
Как изгой, инаковер,
Одолев свое былое
И языковой барьер.
Кто же станет придираться,
Попрекая чужака,
Если сможет затеряться
В вавилонах сосняка?
1977
Высотные скворечники
Поражены безмолвьем;
Плеяды-семисвечники
Зажглись над их становьем;
И кажется: чуть-чуть привстань,
И ты коснешься света
Луны, пленительной, как лань
На бархате завета.
О ясность одиночества,
Когда и сам яснеешь,
Когда молиться хочется,
Но говорить не смеешь!
Ты царь, но в рубище одет,
И ты лишился власти,
И нет венца, и царства нет,
А только счастье, счастье!
1977
"Ты мысль о мысли или скорбь о скорби?.."
* * *
Ты мысль о мысли или скорбь о скорби?
Ты в воздухе, в воде или в огне?
Ты в алтаре? У лопаря ли в торбе?
Иль вправду царствие Твое во мне?
Но где ж его границы и заставы?
Где начинаюсь я? Где Твой предел?
Ужель за рубежом Твоей державы
Я — кость и мясо, тело среди тел?
Не я ли, как и Ты, невидим взору?
Не я ль в Тебе живу, как Ты во мне?
Не я ль, озлясь, испепелил Гоморру
И говорил, пылая в купине?
1977
Среди пути сухого
К пристанищу богов
Задумалась корова
В тени своих рогов.
Она смотрела грустно
На купол вдалеке
И туловище грузно
Покоила в песке.
Далекий дым кадильниц,
И отсвет рыжины,
И томность глаз-чернильниц
Вдруг стали мне нужны.
По морю-океану
Вернусь я в город свой,
Когда я богом стану
С коровьей головой.
Там, где железный скрежет,
Где жар и блеск огня,
Я знаю, не прирежут
И не сожгут меня.
Тогда-то я в коровник
Вступлю, посол небес,
Верней сказать, толковник
Таинственных словес.
Шепну я втихомолку,
Что мы — в одной семье,
Что я наперсник волку
И духовник змее.
1977
В роговых очках и в красной тоге,
Жрец пред алтарем огонь зажег
И повел рассказ, и босоногий
Слушает паломников кружок:
"Он сказал: "Любить мы не принудим,
Но любви посеем семена", —
И учеников отправил к людям,
А к животным — доброго слона.
Слон увидел тигра у запруды,
Хрипло раздирающего лань,
И открыл он тигру сердце Будды:
"Пробудись, — промолвил, — и воспрянь".
Проходя по странам терпеливо,
Слон поднялся к скалам снеговым,
Где, с женою на коленях, Шива
Наблюдал за мальчиком своим.
У того была забава злая:
Голубей хватал он и душил.
Задыхались птицы, округляя
Красный глаз, в котором ужас жил.
Грозный бог, разгневан душегубцем,
В смерть преобратившим озорство,
Размахнулся в ярости трезубцем,
Обезглавил сына своего.
"Что ты сделал с сыном, с нашим сыном!" —
Затряслась, заплакала жена.
Шива взглядом посмотрел повинным
И увидел доброго слона.
И слона он тоже обезглавил
Тем ножом, что молнии быстрей,
К туловищу сына он приставил
Голову апостола зверей.
Так возник Ганеша, светоч новый,
Пламенем насытивший слова,
Сей двуногий и слоноголовый,
С разумом и болью божества.
"Сонное, мгновенное виденье
Все, что с вами на земле творим.
Хватит спать! Пускай наступит бденье!
Пробудитесь!" — говорят живым.
Говорит он, предан доброй вере,
Пробуждая спящих ото сна,
Ибо люди любят, как и звери:
И страшна любовь, и непрочна".
1978
Здравствуй, Кали, жестокая матерь!
По забрызганным кровью камням,
Не молельщик, не жрец, не взыматель,
Я вхожу в твой мучительный храм.
Только что я, козленок, заколот,
Но гляжу в удивленье немом:
Прежней жизни покинувший холод,
Запредельным я греюсь теплом.
Вот раскачиваюсь пред пришельцем
Из полуночного далека
Я — старушечка с высохшим тельцем,
И рукой — коготком голубка.
На земле, заболевшей проказой,
В смеси чада и влаги, стою,
Весь в грязи, пред тобою, трехглазой,
Но ты видишь ли душу мою?
Погаси во мне память преданья,
С разумением связь разорви,
Дай не белую боль состраданья,
Дай мне черные слезы любви!
1978
* * *
Надеваю плащ болонью,
Выхожу. Слегка дождит.
Осень пробует гармонью,
Самолетами гудит.
За сосновой чередою
Светит мне такая даль,
Будто грязною водою
Кто-то вдруг плеснул в хрусталь.
Превратившись в тень ограды,
В листья, птиц и всякий сор,
Здесь ведут со мной монады
Бессловесный разговор.
С ними нежно сочетавшись,
Связи грубые рубя,
Я, самим собой оставшись,
Удаляюсь от себя.
1978
Белеет над Псковом вечерняя пятница.
В скворешне с мотором туристы галдят.
Взяв мелочь привычно, старуха-привратница
Меня почему-то ведет через склад.
На миг отказавшись от мерзости всяческой,
Себе самому неожиданно странен,
Я в маленькой церковке старообрядческой —
Как некий сомнительный никонианин.
На ликах святых, избежавших татарщины,
Какой-то беззвучный и душный покой.
А самые ценные, слышал, растащены
В коммунные годы губернской рукой.
Ужели же церковка эта — отверстие
В эдемских вратах? И взыскующим града
Вползти в него может помочь двоеперстие?
Иль мы позабыли, что ползать не надо?
Я вышел. Я шел вместе с городом низменной
Дорогой и вечера пил эликсир.
Нет Бога ни в каменной кладке, ни в письменной,
И в мире нет Бога. А в Боге — весь мир.
1978
В Бугрове пьют. Вчера, больной и пьяный,
Скончался здешний плотник и столяр.
Дополз домой с Михайловской поляны
И умер. А ведь был еще не стар.
Июньской светлой ночью неизвестный
Был сбит пикапом у монастыря.
Есть куртка, брюки, нет лица. "Не местный", —
Сказал прохожий, знаменье творя.
Он здесь чужой. И лишь одни дубравы
Хранят его довременный покой,
И повторяют соловьи октавы,
Записанные быстрою рукой.
1978