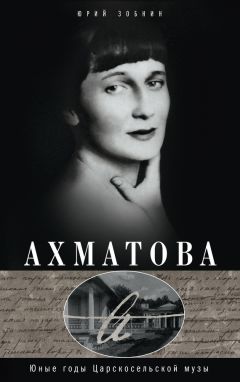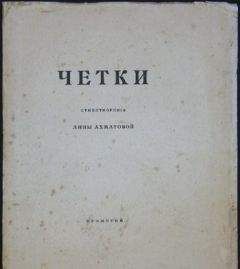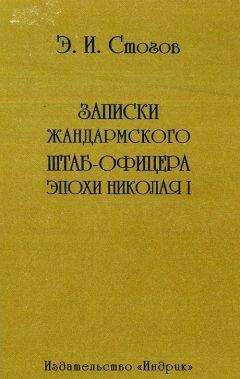Ознакомительная версия.
Пушкин не был никогда другом народа, а был другом царя, дворянства и буржуазии: он льстил им, угождал их развратным вкусам, а о народе отзывался с высокомерием потомственного дворянина.
Однако среди рядовых граждан Российской империи идея «пушкинского юбилея» имела такой успех, что контрпропаганду пришлось свернуть, а большинство губернских и земских скептиков поневоле вовлеклось в невиданное действо, разворачивающееся по всей огромной стране. Тут каждый старался кто во что горазд. Помимо литературных утренников и вечеров, концертов и обедов, лотерей и викторин, выставок, благотворительных акций и сооружения мемориальных знаков, предлагались проекты совсем диковинные: объявить подписку на «национальную пушку имени Пушкина» или устроить в память поэта «всероссийские велосипедные гонки». Кинематографы в столицах демонстрировали «фильму» «Дуэль Пушкина» и повсеместно ставились «живые картины» на пушкинские сюжеты; знаменитый Шустов выпустил особый «Юбилейный ликер А. С. Пушкина (1799–1899)», на этикетке которого был воспроизведён текст стихотворения «Я люблю весёлый пир…»; рестораны предлагали жаркое à la Пушкин и салат «Евгений Онегин»; в продаже появились конфеты «Пушкин», табак «Пушкин», спички «Пушкин» и даже мыло «Пушкин» с духами «Bouquet Pouchkine», ну и, разумеется, всевозможные юбилейные сувениры с изображением поэта или иной пушкинской символикой – чернильницы, стальные перья, конверты, почтовая бумага, значки, жетоны и т. п. Живописцы писали «пушкинские» картины, композиторы – «пушкинские» песни, марши и вальсы.
За всей этой радостной всероссийской суматохой, грешащей, как водится, иногда – легкомыслием, иногда – дурновкусием, иногда – невежеством или корыстью, возникали вещи очень серьёзные. За один только торжественный май 1899 года было продано 45 000 экземпляров изданий произведений Пушкина, причём большинство книг, выпущенных к юбилею, было ориентировано на массового читателя. Издавались и специальные просветительские серии («Русскому солдату о Пушкине» и т. п.). В некоторых же губерниях специально подготовленные к юбилею тиражи раздавались желающим бесплатно. В сущности, это была самая грандиозная за всю предшествующую отечественную историю единовременная всероссийская «книжная интервенция», достигшая таких групп населения, которым и в конце XIX столетия чтение художественной литературы было в новинку. Разумеется, россияне не бросились тут же поголовно в библиотеки и книжные лавки с именем Пушкина на устах, но образ «самой читающей в мире страны» впервые промелькнул среди других российских ликов и личин именно тогда, в дни пушкинского столетия.
В ходе юбилея произошло окончательное примирение с Пушкиным русского духовенства. «Сказка о купце Кузьме Остолопе…» была тогда издана в первоначальном виде «Сказки о попе и его работнике Балде» – и небеса не разверзлись. Между тем под впечатлением всеобщего пушкинского энтузиазма православные священники внимательно перечитывали сочинения Пушкина, обнаружив, что помимо этой сказки и скандальной «Гавриилиады» (которую поэт своим именем никогда не подписывал) – там ещё присутствуют тексты, превращающиеся в духовное оружие русского православия с невероятной силой воздействия. Это наглядно продемонстрировал выдающийся проповедник и общественный деятель митрополит Антоний (Храповицкий).
– В 1899 году, когда Казань и, в частности, Казанский университет праздновали 100-летие со дня рождения поэта, я был приглашён служить там Литургию и сказать речь о значении его поэзии, – вспоминал владыка Антоний. – Я указал на то в своей речи, что несколько самых значительных стихотворений Пушкина остались без всякого толкования и даже без упоминания о них критикой. Более искренние профессоры и некоторые молодые писатели говорили и писали, что я открыл Америку, предложив истолкование оставшегося непонятным и замолченным стихотворения Пушкина, оставленного им без заглавия, но являющегося точной исповедью всего его жизненного пути, как, например, чистосердечная исповедь Блаженного Августина. Вот как оно читается:
В начале жизни школу помню я;
Там нас, детей беспечных, было много;
Неровная и резвая семья.
Смиренная, одетая убого,
Но видом величавая жена
Над школою надзор хранила строго.
Толпою нашею окружена,
Приятным, сладким голосом, бывало,
С младенцами беседует она.
Её чела я помню покрывало
И очи светлые, как небеса.
Но я вникал в её беседы мало.
Меня смущала строгая краса
Её чела, спокойных уст и взоров,
И полные святыни словеса.
Дичась её советов и укоров,
Я про себя превратно толковал
Понятный смысл правдивых разговоров,
И часто я украдкой убегал
В великолепный мрак чужого сада,
Под свод искусственный порфирных скал.
Там нежила меня теней прохлада;
Я предавал мечтам свой юный ум,
И праздномыслить было мне отрада.
Любил я светлых вод и листьев шум,
И белые в тени дерев кумиры,
И в ликах их печать недвижных дум.
Всё – мраморные циркули и лиры,
Мечи и свитки в мраморных руках,
На главах лавры, на плечах порфиры —
Всё наводило сладкий некий страх
Мне на сердце; и слёзы вдохновенья,
При виде их, рождались на глазах.
Другие два чудесные творенья
Влекли меня волшебною красой:
То были двух бесов изображенья.
Один (Дельфийский идол) лик младой —
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.
Другой женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал —
Волшебный демон – лживый, но прекрасный.
Пред ними сам себя я забывал;
В груди младое сердце билось – холод
Бежал по мне и кудри подымал.
Безвестных наслаждений тёмный голод
Меня терзал – уныние и лень
Меня сковали – тщетно был я молод.
Средь отроков я молча целый день
Бродил угрюмый – всё кумиры сада
На душу мне свою бросали тень.[129]
Не однажды, предлагая вниманию слушателей на литературных вечерах и на студенческих рефератах это стихотворение, я спрашивал слушателей: «О какой школе здесь говорится, кто упоминаемая здесь учительница и что за два идола описаны в конце этого стихотворения, подходящего и под понятие басни, и под понятие загадки?» Сам автор такого толкования не дал, но смысл его исповеди в связи со многими другими его стихотворениями совершенно понятен. Общество подростков школьников – это русское интеллигентное юношество; учительница – это наша Святая Русь; чужой сад – Западная Европа; два идола в чужом саду – это два основных мотива западноевропейской жизни – гордость и сладострастие, прикрытые философскими тогами, как мраморные статуи, на которые любовались упрямые мальчики, не желавшие не только исполнять, но даже и вникать в беседы своей мудрой и добродетельной учительницы и пристрастно перетолковывавшие её приветливые беседы[130]…
Но самый главный «пушкинский подарок» получили российские детишки. Юбилейные торжества 1898–1899 годов, наводнившие Россию дешёвыми изданиями Пушкина и сделавшие на какое-то время творчество поэта обиходным даже в самых «нелитературных» слоях общества, подвигли поколение русскоязычных мам всех сословий и национальностей, приступающих в эти годы к исполнению своих важных родительских обязанностей во всех концах Империи, на чтение «Сказок» Пушкина своим малышам:
Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком…
Так начиналась традиция семейного чтения, которая по своим этнокультурным масштабам до сих пор не имеет аналога ни в одной из великих мировых «литературных» держав. Ведь ничего подобного «решительно дурным» сказкам, которые так не нравились Белинскому и его последователям, не было ни в наследии Гомера, ни в наследии Данте, ни в наследии Шекспира, ни в наследии Вольтера, ни в наследии Гёте. По выражению Ахматовой, «Сказкам» Пушкина «волею судеб было предназначено сыграть роль моста между величайшим гением России и детьми». А это имело глобальные последствия для всей отечественной культуры:
Стихи Пушкина дарили детям русский язык в самом совершенном его великолепии, язык, который они, может быть, никогда больше не услышат и на котором никогда не будут говорить, но который всё равно будет при них, как вечная драгоценность.
Что касается самой Ахматовой, то её детство пришлось на последние годы «допушкинского» периода в истории российского воспитания, и, как уже говорилось, литература вообще и стихи, в частности, начинались для неё не с Пушкина, а с Державина и Некрасова. Творчество Пушкина привлекло её, как и большинство старших современников, среди праздничного гомона, поднятого по всей России с лёгкой руки великого князя Константина Константиновича в 1898–1899 годы, прежде всего тем самым, очень взрослым стихотворением, о котором в это же время говорил в аудиториях Казанского университета будущий митрополит Антоний:
Ознакомительная версия.