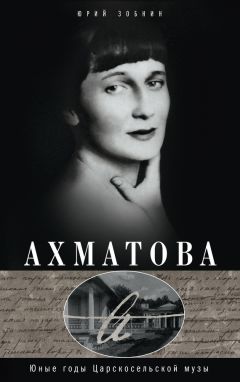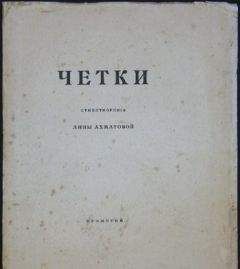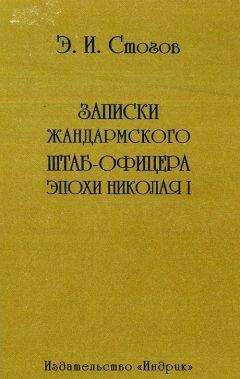Ознакомительная версия.
Семейные неурядицы, как всегда, застали её врасплох и огорчили очень, настолько, что она даже попыталась что-то предпринять и как-то заявить о себе, если не в жизни мужа, уже открыто избегавшего её общества и проводившего в Петербурге весь свой досуг, то хотя бы в жизни неожиданно выросших детей. Течение времени она, разумеется, не замечала, и вдруг приступила к детям так, как будто бы вокруг продолжали оставаться неизменными нравы её собственной молодости, и все «проклятые вопросы», сводившие с ума гимназистов и студентов позапрошлого царствования, не увяли ещё и не пожухли вместе с четвертьвековыми библиотечными подшивками «Современника» и «Отечественных записок»:
Пускай нам говорит изменчивая мода,
Что тема старая «страдания народа»
И что поэзия забыть её должна;
Не верьте, юноши! Не стареет она…[133]
Она заговорила со старшими детьми с горячностью народников семидесятых годов – об общественности, науке, просвещении, обо всём том, что некогда так поражало её, очутившуюся после полтавских патриархальных усадеб середины века на «дебатах» в прокуренных общих гостиных студенческих петербургских коммун. Но отличница Инна была с ней (как и с прочими) неизменно вежлива, немногословна и непроницаема, а Андрей, окончательно погрузившийся в мир античности (он начал учить древние языки и очевидно тяготел к классической филологии), оказался собеседником более чем рассеянным. Особая коллизия возникает в это время и в отношениях Инны Эразмовны с Ахматовой: мать и дочь вместе начинают активно посещать Русский музей императора Александра III.
Несмотря на то что музей, торжественно открытый для посетителей 7 (19) марта 1898 года в здании специально перестроенного под картинную галерею петербургского Михайловского дворца был призван сосредоточить в своих стенах выдающиеся произведения русских живописцев и ваятелей всех времён и школ, создание его оказалось связанным прежде всего с историей знаменитых передвижников, русских художников-реалистов, вышедших в далёком 1863 году из императорской Академии художеств и организовавших собственное независимое профессиональное «Товарищество передвижных художественных выставок». Судьба передвижников парадоксальна. Начинали они как нонконформисты и диссиденты, единомышленники Чернышевского и народников[134]. Народный быт в совокупности с пейзажными видами российской глубинки так и остались главной тематикой их полотен. В эпоху реформ это казалось фрондой и горячо приветствовалось разночинной молодёжью. Однако в новое царствование неожиданно для самих лидеров «Товарищества» главным поклонником их творчества оказался… император. Домовитый прагматик Александр III не любил мифологических сюжетов академической живописи, а нехитрые народные сценки и родные поля и леса жаловал очень[135].
На выставке 1889 года Государь-Миротворец, восхищенный картинами Репина, предложил «Товариществу» свою помощь в строительстве особого зала или галереи (где-нибудь в центре, поблизости от Исаакиевского собора) для постоянной экспозиции. Руководители передвижников от царской помощи отказались (они продолжали считать себя бунтарями), однако идея «народного музея» с этого времени поднималась неоднократно как в окружении императора, так и среди деятелей искусства, близких к передвижникам, и была в конце концов реализована уже после смерти Александра III его сыном, императором Николаем II. Музей создавался им как памятник «незабвенному родителю», с учётом вкусов покойного и для хранения собранной Александром художественной коллекции. Поэтому, несмотря на переданные сюда из Эрмитажа и частных собраний разнообразные отечественные шедевры, логическим центром экспозиции стала именно живопись передвижников, как бы венчающая собой процесс становления национального искусства со времен Петра Великого до конца XIX века. Это было триумфом «Товарищества» и одновременно завершением эпохи передвижных выставок: после открытия Русского музея в прежнем виде они больше не возобновлялись. А поколение Инны Эразмовны могло утешиться приятным сознанием того, что художественная школа, сформированная вкусами разночинной молодёжи Петербурга и Москвы, оказалась в итоге образцовым проявлением российской художественной самобытности. Приобщить к этому торжеству разночинного народничества Инна Эразмовна хотела и юную Ахматову, которую в конце 1890-х годов начала регулярно вывозить в Петербург на экскурсии:
Меня маленькую водили в Эрмитаж и в Русский музей, который тогда был совсем молодой. Мы жили в Царском, мама возила меня из Царского. Что я терпеть не могла, так это выставок передвижников. Всё лиловое. Я шла по лестнице и думала: насколько эти старые картины, развешанные на лестнице, лучше.
Попытка Инны Эразмовны привить дочери эстетическую склонность к живописным образам и темам собственной разночинной юности дала неожиданный и весьма обидный эффект. Ахматова не только не прониклась материнским восторгом перед портретами Ярошенко, провинциальными жанровыми сценками Мясоедова и среднерусскими пейзажами Левитана[136], но, как истинная (хотя и младшая) современница серебряного века, испытала острое желание иной красоты. Знаменитый стих Зинаиды Гиппиус: «Мне нужно то, чего нет на свете!» – был ещё не прочитан юной Ахматовой, но уже прочувствован ею. Обиднее же всего для Инны Эразмовны было то, что образцом «новой красоты» для её дочери оказалась живущая теперь по соседству с семейством Горенко Ариадна Великолепная.
Она с любопытством прислушивалась к разговорам старших обо мне, – вспоминала А. В. Тыркова-Вильямс. – Это было ещё до моего писательства, но около молодых женщин, если они не уроды, вьются шёпоты и пересуживания.
– Я Вас в Царском и на улице всё высматривала, – рассказывала она мне. – Папа Вас называл “Ариадна Великолепная”. Мне это слово ужасно нравилось. Я тогда же решила, что когда-нибудь тоже стану великолепная…
Избранный Ахматовой образец для подражания крайне забавлял Андрея Антоновича, который от души хохотал, указывая на дочку:
– Декадентская поэтесса растёт!
Представление о том, кто такие декаденты, было смутное не только у Ахматовой, но и у большинства обитателей Царского Села 1890-х годов. Судачили, что в Москве завелись какие-то «символисты» во главе с безумным (а, вернее, впрочем, бездарным) поэтом Валерием Брюсовым, автором «поэмы» из одной стихотворной строки: «О, закрой свои бледные ноги!». Поэму про ноги знали потому, что над ней вдоволь потешились критик Буренин в газете «Новое время» и философ Владимир Сергеевич Соловьев в журнале «Русская мысль». Оттуда же известно было и само слово «декадент», производимое от французского «decadence», упадок. Понятно, что эти «упадочники» ничего святого за душой не имели вовсе:
Я действительности нашей не вижу,
Я не знаю нашего века,
Родину я ненавижу, —
Я люблю идеал человека![137]
На том царскосельские познания о новейших течениях в литературе исчерпывались. «Новое время» и «Русскую мысль» царскосёлы читали; символистов же (равно как и других прочих декадентов) – никогда. Что же касается Андрея Антоновича, то для него образ декадента не ограничивался, разумеется, одной лишь экстравагантной царскосельской соседкой. В Петербурге он имел знакомства в театральных, художественных и литературных кругах, регулярно посещал модные премьеры, дискуссии и выставки, на которых любимые Инной Эразмовной доморощенные реалисты-народники если и упоминались, то в качестве объектов для остроумных шуток и язвительных пародий. Однако для царскосельского семейства эта петербургская жизнь Андрея Антоновича оставалась полностью закрытой.
Можно представить, насколько тяжёлым оказались для Ахматовой, переживавшей подростковый возрастной кризис, и родительский разлад, и отчуждение отца, и неприкаянность матери, которую и прислуга, и соседи чуть ли не в глаза именовали Инной Несуразмовной:
Дичась её советов и укоров,
Я про себя превратно толковал
Понятный смысл правдивых разговоров,
И часто я украдкой убегал
В великолепный мрак чужого сада,
Под свод искусственный порфирных скал.[138]
Как уже говорилось, «великолепный мрак чужого сада» на всю жизнь оказался связан для Ахматовой с картиной царскосельских парков, которые она открывает для себя сразу вслед за её первым черноморским Херсонесом и непосредственно во время знакомства с пушкинской поэзией:
…В Царском была другая античность и другая вода. Там кипели, бушевали или о чём-то повествовали сотни парковых водопадов, звук которых сопровождал всю жизнь Пушкина <…>, а статуи и храмы дружбы свидетельствовали о иной «гиперборейской» античности.
Тут следует вспомнить, что при всём многообразии «пушкинского присутствия» в ахматовском творчестве, ни её заметки, ни литературоведческие статьи, ни художественные тексты обычно никогда не касаются непосредственно человеческого облика поэта. Ахматова будет много писать о Пушкине, но изобразит его самого в сущности только однажды, в одном из самых известных своих стихотворений:
Ознакомительная версия.