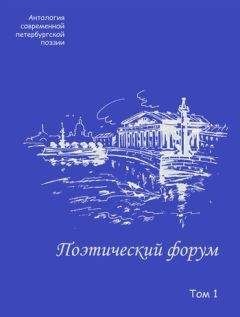Счастье
Нет, не умрёт, нетленно будет небо
И те сердца, что вновь и вновь горят,
И этот аромат кусочка хлеба,
И дочки взгляд, ах, что это за взгляд!
Все дети верят, что бессмертны мамы,
Бессмертны игры, птицы и цветы.
Они порой бывают так упрямы —
В защите помыслов небесной чистоты.
И снова вспомнилась блокада:
С лица земли сметённый дом,
Солдат, вернувшийся из ада
Стоит над белым пустырём…
И огляделся, и не сразу
Походный «сидор» развязал,
И все нехитрые припасы
Рукам протянутым раздал.
Несу, не ем краюху хлеба —
Свой первый хлеб несу домой!
Он в руки мне не манной с неба —
Солдатской вложен был рукой.
Лишь мать заплакала тихонько
В линялый кутаясь платок,
И приговаривала только,
Мол, всё потом поймёшь, сынок.
И не был горек хлеб тот горький,
Тот хлеб военного пайка,
Но помню вкус шершавой корки
С глотком крутого кипятка.
Из всех известных на земле стихий
Одна есть – необузданная строчка,
С которой начинаются стихи —
Судьбы моей начало, а не точка.
Которая гудлива, как набат,
Как про запас припрятанное жало.
Строкой и словом побеждал Сократ,
Она частенько мужество венчала.
Живи и пой, начальная строка!
Живи и пой, войди в чужие судьбы…
Ночь для стиха безмерно коротка,
Когда рассветы строгие – как судьи.
От солнечных апрельских половодий,
От соловья, что пел зарю с листа,
Пришла сквозь зной грибных угодий
Осенняя причудливость куста…
Лоскутья луж дорогою остылой
Средь бела дня закованы во льды.
И сон земли, земли до боли милой,
Прикутан первым снегом молодым…
И стало явью всё, что было тайным:
Опавший лист и лес, прозрачный весь,
Всех удивит открытьем гениальным —
Черёд придёт и буйствовать и цвесть.
Я долго шёл. Гудела непогода,
Снег бил в лицо и остужал виски,
И радость встречи, выстояв полгода,
Сжимала тело хрупкое в тиски.
Но, подчиняясь воле расписаний,
Под сердцем боль прощаний сберегу.
Недолюбив, недосказав признаний,
Следы разлуки ставлю на снегу.
Всё бродил, бродил по листопаду,
Бездорожьем вымотанный весь…
Лунный свет в притихшую прохладу
Нёс зарницы утреннюю весть.
Вот мой дом с притухшими огнями!
Ты уже проснулась, ты не спишь,
Говоришь беззвучными губами,
Что рассвет принёс я, говоришь…
Костёр в полудрёме – ночное:
На дальних дозорах – стога;
Две тени – две жизни, их двое,
И два между ними шага.
И робость меж ними стеною
Да робкая спелость полей.
Туманы струились в ночное
Средь редкого храпа коней…
…Косынка упала, светлело.
У всей у земли на виду
Две тени сближались несмело,
Две жизни сливались в одну.
Мы умираем в одиночку.
Мы умираем по ночам:
Сознанье стягивает в точку,
Дрожь пробегает по плечам.
Мы вспоминаем торопливо,
Края подушки теребя,
То, что мы прятали стыдливо
И от других, и от себя.
Мы быть могли честнее, лучше!
Мы столько в мир могли вложить!
Но вот в окошке солнца лучик
Дарует свет и право жить.
И забываем мы беспечно
То, что пришлось нам превозмочь.
Мы всё успеем – жизнь-то вечна!..
Но впереди другая ночь.
Истоптаны до дыр
Стопервые штиблеты,
Но так же бьётся мир
Под краешком манжеты.
И снова невзначай
Засветится улыбка.
Улыбкой отвечай, —
Всё прочее так зыбко.
Всё прочее – как дым,
Так суждено от века,
Ведь именно таким
Бог создал человека:
С улыбкой на устах
И светлою любовью.
Пусть мы – увы, и ах! —
Дань отдали злословью,
Но зло не наш кумир,
И песни не допеты,
Покуда бьётся мир
Под краешком манжеты.
Я выбираю наугад
альбома старого страницу,
и на меня с неё глядят
друзей приветливые лица.
Альбом, историю храня,
её на кадры нарезая,
покажет прошлого меня, —
и я себя в себе узнаю!
Кадр – парашютное кольцо,
потянешь – купол развернётся,
и вот застывшее лицо
вдруг оживёт и засмеётся.
И рядом речка зашумит,
и где-то вдалеке – дорога.
В костре валежник так дымит,
что даже «ест» глаза немного.
Прыжок кончается. Суди
нас Бог за пройденные тропы.
Поют тихонечко в груди,
за сердце зацепившись, стропы.
Наш век ничуть не лучше и не хуже остальных,
понять легко – довольно оглядеться, —
всё так же люди делятся на добрых и дурных
с границей, проходящей через сердце.
Ах, гений, что нам гений? Да, он с вечностью «на ты»,
а где же шарм, изящность упаковки?
Взамен неясный образ непонятной красоты
и автор, в обращении неловкий.
Заставим Моцарта писать «на вынос» ерунду —
и вот зеваки руки потирают,
но Моцарт будет Моцартом лишь с совестью в ладу,
ведь моцарты иначе умирают.
Мотив летит над миром, строчка вьётся по листу,
колдует кисть над плоскостью холстины —
природе в унисон душа не терпит пустоту
и рвётся ввысь сквозь пошлость и рутину.
Я – как Рим-лицедей, выпускающий стрелы дорог.
Кто-то ступит на них и меня избежать не сумеет.
Стёрты плиты моих площадей миллионами ног,
но ещё не пришла, где-то пляшет моя Саломея.
Непомерную цену заплатят за страсти каприз
и плательщик, и жертва. Но, видимо, мир так устроен,
что опять без сомнения бросит влюблённый Парис
на весы олимпийских богов беззаботную Трою.
Что Парису Вселенная – лишь для портрета багет!
Дорогой древесины кусок, оттенивший Елену.
Бесполезен сосуд, если в нём содержимого нет.
Но закончен спектакль, и уборщик выходит на сцену.
Саломеи не будет – у неё на сегодня больничный.
Снял тунику Парис – ждёт его за углом гастроном.
Реквизитор дороги смотал и маршрутом привычным
За Парисом вдогонку спешит за дешёвым вином.
На душе опустело. Ветхий сторож прошаркал до двери,
Глухо звякнул ключами, запирая висячий замок.
Саломея не спит, пьёт микстуру и всё-таки верит:
Кто-то ждёт появленья её. Он не должен…. Не мог….
Где-то нива золотится,
где-то горы прячет мгла;
от границы до границы
ширь безмерная легла,
а по избам закопчённым
безнадёга голосит.
Только песни да иконы
выживают на Руси.
Что ни век – война да смута.
То холера, то пожар
приучают поминутно
жить на лезвии ножа.
Ни управы, ни закона,
и пощады не проси!
Только песни да иконы
выживают на Руси.
Сколько это будет длиться
нас не спросят времена:
переносятся столицы,
исчезают имена,
изменяются каноны.
Если поднял крест – неси!
Только песни да иконы
выживают на Руси!
Прости, что меня не дождался,
Прости, солгала тебе я.
Ты в памяти милым остался,
А я уплыла, как ладья…
Ты спросишь меня, в чём причина,
К чему этот странный побег?
Но я промолчу, мой мужчина...
Растаял предутренний снег.
Прости. Теперь не жду.
Прости. Но время лечит…
Прошедшую беду
Не вспомню я при встрече.
Об этом напишу
Лишь в тоненькой тетради.
Прощенья попрошу —
Не будет нашей свадьбы!
Не будет светлых дней
И праздничных нарядов…
Жену любил сильней,
Но был со мною рядом.
Лепестки столетий опадают,
Затихает времени прибой:
Вечностью таинственно мерцает
Звёздный свет холодно-голубой…
Я – одна. Мне ничего не надо!
Льётся ночь в осенней тишине,
И плутает по дорожкам сада
Счастье, предназначенное мне.
Клубился пар над рыхлою землёю,
Распластываясь, таяли вдали
Перед вечерней бледною зарёю,
На север пролетая, журавли.
Весна дразнила предвкушеньем лета:
Разливом трав и клейкою листвой,
Черёмухою, под венец одетой,
И солнцем с непокрытой головой.
Весна звала, манила, билась кровью
В висках, звенела в воздухе густом,
Благословляя новые гнездовья
И нас – привычным, царственным перстом…
Ещё последнего кипрея
Стрела лиловая торчит,
Ещё ручей, в дожде добрея,
По-журавлиному журчит.
Гудят осенние осины,
Как рой осиный перед сном.
Шагаю по зеркальной сини
Вселенной – в лужах, кверху дном.
Шагаю я, банальный смертный,
Не зная дня конца шагов,
И небо мерю той же меркой,
Что землю: снизу и с боков…
А мне б узнать, как в эту осень
Непостижимый Дух Святой
Рисует сон высоких сосен
И грусть под шубой золотой!
Все от тумана настрадались!
Туман дорог, туман пророк…
Но чем туманней Нострадамус,
Тем убедительнее Бог…
И компас мой: стрела кипрея,
Туман с просветом вдалеке
Да формула, как стать добрее…
На эфиопском языке.
Нам не дано предугадать,