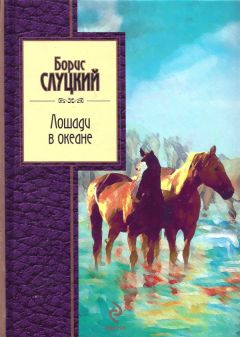— Вам будут говорить много неверного о словах Никиты Сергеевича, но вас очень любят, и все будет хорошо.
Звонил корреспондент, если не ошибаюсь, Рейтер. Трубку взял И. Г. Послушал и сказал:
— Говорит: все знают, что вы смелый человек. Скажите же наконец, что вы обо всем этом думаете.
К вечеру пришли Каверин и Паустовский с новостями очень скверного свойства. Поучительно было наблюдать мрачного, подавленного Эренбурга, мрачного, возбужденного Паустовского и улыбающегося Каверина, который сказал:
— А я, знаете, так устроен, что уверен, что все обойдется. Просто не могу поверить, что будет плохо.
На него немедля обрушились, недвусмысленно объясняя его оптимизм крайней молодостью и неопытностью. А Каверину тогда уже было за шестьдесят.
Правя мемуары, я, конечно, иногда разрушал музыку фразы, которая всегда выговаривалась прежде, чем выстукивалась на машинке. Вообще говоря, мемуары читали (до журнальных редакторов) всегда и по главам — Наталья Ивановна (она их перепечатывала)[88], Любовь Михайловна, Ирина Ильинична, я и Савич[89]. Кроме того — так сказать, узкие специалисты. Например, главу о Назыме — Бабаев, которого я пригласил. Главу о Маркише — родственники. Главу о Бабеле — Антонина Николаевна и, наверное, Мунблит[90]. Мелкие справки наводились по малому «Ля-руссу» и Большой советской энциклопедии (2-е издание). В случае надобности читалась всякая дополнительная литература. Эренбург слушал замечания, даже требовал их, спорил, часто соглашался. Один из важнейших законов, которые он выработал для мемуарной книги, — не писать о плохих людях (кажется, почти никто из них не удостоен отдельной главы) и не писать плохого о хороших людях. Эренбурга обвиняли в очернительстве, а закон, оказывается, толкал на лакировку.
Эренбургу плохо давались описания внешности героев мемуаров, манеры их поведения.
Я как-то спросил у него:
— Почему обо всех ваших героях вы пишете «застенчивый»?
И он не смог это объяснить.
Зато когда надо было объяснить, куда тот или другой герой гнул, Эренбург был на высоте.
Очень долго писалась глава о Сталине. Несколько лет Сталин был одной из главных тем разговоров и размышлений (конечно, не у одного И. Г.). И. Г. пытался определить, выяснить закономерность сталинского отношения к людям — особенно в 1937 году — и пришел к мысли, что случайности было куда больше, чем закономерности. Однажды я спросил у И. Г., почему Сталин любил его книги. Отвечено было в том смысле, что ценились их политическая полезность и международный охват. Вообще говоря, Сталин, смысл Сталина был орешком, в твердости которого И. Г. неоднократно признавался.
Дачные книги — особенно Чехова — заложены не только листьями, цветами и листьями травы, но и землей. Земляные закладки. Работал в оранжерее — и читал.
Две сестры, персонажи без речей в этой семейной пьесе, привезенные из — кажется — Франции после войны и поселенные на даче, наверху. Я с ними несколько раз сидел за общим дачным обеденным столом. Я ничего о них не знаю. И. Г. говорил, что барышнями они выписывали из Франции (кажется) газеты. Они были седые, худощавые, с одинаковыми лицами. Обе всегда в одинаковых черных платьях. Вопросов за столом им не задавали. Л. М. смотрела на них дисциплинирующим взглядом.
Приехала команда из больницы, и медсестра, крепенькая, сорокалетняя, шепнула мне: «Документы проверьте». Я проверил. Показали без обиды. Потом ловко, сноровисто вмиг отбросили простыни, сняли белье, и я увидел то, что никогда не видел до этого: матово-белое, без желтизны, худое, с еле намеченным старческим животом, бедное-бедное тело.
Так же ловко, ладно, сноровисто, но без всякой уважительности его стащили на носилки, обернули, накрыли, унесли.
Илья Григорьевич, которого все — даже Незвал[91] в поэме и Шолохов в речах — называли именно так: Илья Григорьевич, — в последний раз уехал из дому, из которого он так любил уезжать.
В XX веке разговоров не записывают, особенно доверительных — в благодарность за доверие.
Запоминают разговоры плохо — вся память растаскана впечатлениями бытия.
Так что я почти ничего не запомнил из разговоров с Заболоцким.
Их было много. Не могло не быть. Три недели мы провели вместе, зачастую наедине — в купе международных поездов Москва — Вена — Рим и Рим — Вена — Москва и в итальянских отелях. Были и еще разговоры: немногие и недолгие до поезда, многие и продолжительные — после.
Однажды, уже в 1958 году, летом, я приехал к нему в Тарусу, и мы провели вместе несколько часов. Все это было в 1956–1958 годах, в последние два с половиной года его жизни.
Что было пережито вместе? Италия. По телевидению впервые выступали вместе. В Сикстинской капелле вдвоем час задирали головы. Теплый, не остывший еще труп Н. А. я (с Бажаном и Бесо Жгенти) поднимал с пола[92] и укладывал на письменный стол. И т. д. и пр. А что запомнилось? Почти ничего. В особенности из разговоров. Одно могу сказать в утешение: больше говорил я. Н. А. больше слушал, усмехаясь и поблескивая стеклами очков. Только когда сильно выпивали — так случалось несколько раз, — Н. А. говорил помногу: обдуманное, веское, почти докторальное.
Здесь — без хронологии — запишу то, что из этих разговоров, а точнее, из его высказываний помню.
Рано утром просыпаемся в Равенне, в гостинице. После тяжелого дня — с могилой Данте, с могилой Теодориха[93], с поездкой в загородные церкви, где Прокофьев, обычно безучастный, с изумлением обнаруживает в византийской мозаике нечто православное, а ученый монах справляется о здоровье академика Лазарева, с официальными обедами и многими речами. Здесь мощное общество итало-советской дружбы. В этот ли день нас возили в итальянский колхоз, где в правлении под стеклом переводы советских брошюр о кукурузе? В этот, наверное. В этот ли день мы побывали в городке Альфонсино, где все население, минус два-три человека, голосует за коммунистов? Альфонсинские матери протягивали нам младенцев для благословения. Был митинг. Мы говорили речи. Нас награждали огромными, в ладонь, медными медалями в память самоосвобождения Альфонсино от фашистов. Может быть, в этот день мы побывали в Альфонсино, или на мызе, где скрывался Гарибальди, или в приморском городке, где у рыбачьих лодок — флаги с ликами святых. Был долгий тяжелый день, наполненный словами и делами, а наутро мы проснулись и пошли погулять. Равенна — маленький городишко, белый, чистый, каменный, похожий, как многое в Италии, на Крым, только без гор и без моря. Очень скоро мы вышли в поле и пошли по неширокой дороге, обсаженной деревьями, кажется пиниями — итальянскими соснами.
И Заболоцкий сказал фразу, которую я запомнил точно:
— Здесь мне хорошо дышится.
Вообще, в Италии ему дышалось хорошо. Больной (год оставался до смерти), тучный, по всем статьям идеальная противоположность типу глобтроттера, он легко переносил и жару, и многочасовые поездки в автобусах и сверхскоростных поездах (непривычных для него и Мартынова в большей степени, чем для других участников поездки), напряжение митингов, банкетов, интервьюирования и особенно частых изъяснений с итальянцами на волапюке из смеси малознакомых нам иностранных языков. Странное дело! Мартынов со своей полусотней латинских и полудюжиной итальянских слов радостно бросался в диспуты любой сложности. Заболоцкий, лингвистически столь же подкованный, помалкивал.
Мы никогда или почти никогда не говорили с Н. А. о его темницах. Он не рассказывал, я не расспрашивал. Однажды только — к слову пришлось — я спросил, встречал ли он кого-нибудь в ленинградском Большом доме? Заболоцкий ответил, что однажды в коридоре по недосмотру надзирателей он столкнулся с Диким и тот успел сказать:
— Чтобы я на них когда-нибудь стал работать!
— А потом вышел, — добавил Н. А., — и сыграл Сталина в кино[94].
Однажды в Тарусе, когда я провожал Н. А. на дачу Оттена, где нас ждали Паустовский и Семынин[95], мы проходили мимо недостроенного дома. Может быть, это был не дом, а котлован. Заболоцкий сказал:
— А ведь я все строительные профессии знаю. И землекопом был, и каменщиком, и плотником, и прорабом большого участка[96].
В другой раз на общий чересчур вопрос о шести лагерных годах: «Ну, как там было?» — он ответил не распространяясь:
— И плохо было, и очень плохо, и очень даже хорошо.
Кажется, за все шесть лет он написал одно только стихотворение (не «Слепой» ли?). Но знаю это не от него, а от кого-то из близких ему. «Где-то в поле возле Магадана» написано поздно.
Несколько раз я приносил Заболоцкому книги — из нововышедших, и почти всегда он с улыбкой отказывался, делая жест в сторону книжных полок:
— Что же мне, Тютчева и Баратынского выбросить, а это поставить?
Полок было мало, и книг было мало. Этого — текущей литературы — не было, кажется, вовсе, кроме неотвязного минимума дареных книг с надписями. Недавно я осмотрел у Екатерины Васильевны библиотеку Заболоцкого.