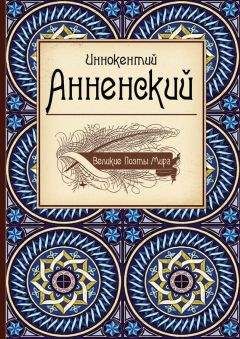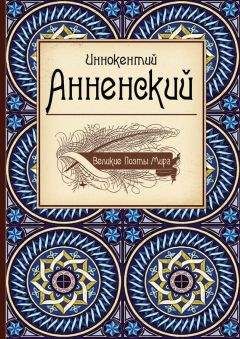43. Мучительный сонет
Едва пчелиное гуденье замолчало,
Уж ноющий комар приблизился, звеня…
Каких обманов ты, о сердце, не прощало
Тревожной пустоте оконченного дня?
Мне нужен талый снег под желтизной огня,
Сквозь потное стекло светящего устало,
И чтобы прядь волос так близко от меня,
Так близко от меня, развившись, трепетала.
Мне надо дымных туч с померкшей высоты,
Круженья дымных туч, в которых нет былого,
Полузакрытых глаз и музыки мечты,
И музыки мечты, еще не знавшей слова…
О, дай мне только миг, но в жизни, не во сне,
Чтоб мог я стать огнем или сгореть в огне!
Пятно жерла стеною огибая,
Минутно лед туманный позлащен…
Мечта весны, когда-то голубая,
Твоей тюрьмой горящей я смущен.
Истомлена сверканием напрасным,
И плачешь ты, и рвешься трепеща,
Но для чудес в дыму полудня красном
У солнца нет победного луча.
Ты помнишь лик светила, но иного,
В тебя не те гляделися цветы,
И твой конец на сердце у больного,
Коль скоро под землей не задохнешься ты.
Но не желай свидетелям безмолвным
До чар весны сберечь свой синий плен…
Ты не мечта, ты будешь только тлен
Раскованным и громозвучным волнам.
Полюбил бы я зиму,
Да обуза тяжка…
От нее даже дыму
Не уйти в облака.
Эта резанность линий,
Этот грузный полет,
Этот нищенски синий
И заплаканный лед!
Но люблю ослабелый
От заоблачных нег –
То сверкающе белый,
То сиреневый снег…
И особенно талый,
Когда, выси открыв,
Он ложится усталый
На скользящий обрыв,
Точно стада в тумане
Непорочные сны –
На сомнительной грани
Всесожженья весны.
Нежны травы, белы плиты,
И звенит победно медь:
«Голубые льды разбиты,
И они должны сгореть!»
Точно кружит солнце, зимний
Долгий плен свой позабыв;
Только мне в пасхальном гимне
Смерти слышится призыв.
Ведь под снегом солнце билось,
Там тянулась жизни нить:
Ту алмазную застылость
Надо было рабудить…
Для чего ж с контУров нежной,
Непорочной красоты
Грубо сорван саван снежный,
Жечь зачем ее цветы?
Для чего так сине пламя,
Раскаленность так бела,
И, гудя, с колоколами
Слили звон колокола?
Тот, грехи подъявший мира,
Осушавший реки слез,
Так ли дочерь Иаира
Поднял некогда Христос?
Не мигнул фитиль горящий,
Не зазыбил ветер ткань…
Подошел Спаситель к спящей
И сказал ей тихо: «Встань».
О, канун вечных будней,
Скуки липкое жало…
В пыльном зное полудней
Гул и краска вокзала…
Полумертвые мухи
На забитом киоске,
На пролитой известке
Слепы, жадны и глухи.
Флаг линяло-зеленый,
Пара белые взрывы,
И трубы отдаленной
Без ответа призывы.
И эмблема разлуки
В обманувшем свиданьи –
КондуктОр однорукий
У часов в ожиданьи…
Есть ли что-нибудь нудней,
Чем недвижная точка,
Чем дрожанье полудней
Над дремотой листочка…
Что-нибудь, но не это…
Подползай – ты обязан;
Как ты жарок, измазан,
Все равно – но не это!
Уничьтожиться, канув
В этот омут безликий,
Прямо в одурь диванов,
В полосатые тики!..
Довольно дел, довольно слов,
Побудем молча, без улыбок,
Снежит из низких облаков,
А горний свет уныл и зыбок.
В непостижимой им борьбе
Мятутся черные ракиты.
«До завтра, – говорю тебе, —
Сегодня мы с тобою квиты».
Хочу, не грезя, не моля,
Пускай безмерно виноватый,
Глядеть на белые поля
Через стекло с налипшей ватой.
А ты красуйся, ты – гори…
Ты уверяй, что ты простила,
Гори полоской той зари,
Вокруг которой все застыло.
Снегов немую черноту
Прожгло два глаза из тумана,
И дым остался на лету
Горящим золотом фонтана.
Я знаю – пышущий дракон,
Весь занесен пушистым снегом,
Сейчас порвет мятежным бегом
Завороженной дали сон.
А с ним, усталые рабы,
Обречены холодной яме,
Влачатся тяжкие гробы,
Скрипя и лязгая цепями.
Пока с разбитым фонарем,
Наполовину притушенным,
Среди кошмара дум и дрем
Проходит Полночь по вагонам.
Она – как призраный монах,
И чем ее дозоры глуше,
Тем больше чада в черных снах,
И затеканий, и удуший;
Тем больше слов, как бы не слов,
Тем отвратительней дыханье,
И запрокинутых голов
В подушках красных колыханье.
Как вор, наметивший карман,
Она тиха, пока мы живы,
Лишь молча точит свой дурман
Да тушит черные наплывы.
А снизу стук, а сбоку гул,
Да все бесцельней, безымянней…
И мерзок тем, кто не заснул,
Хаос полусуществований!
Но тает ночь… И дряхл и сед,
Еще вчера Закат осенний,
Приподнимается Рассвет
С одра его томившей Тени.
Забывшим за ночь свой недуг
В глаза опять глядит терзанье,
И дребезжит сильнее стук,
Дробя налеты обмерзанья.
Пары желтеющей стеной
Загородили красный пламень,
И стойко должен зуб больной
Перегрызать холодный камень.
Как чисто гаснут небеса,
Какою прихотью ажурной
Уходят дальние леса
В ту высь, что знали мы лазурной…
В твоих глазах упрека нет:
Ты туч закатных догоранье
И сизо-розовый отсвет
Встречаешь, как воспоминанье.
Но я тоски не поборю:
В пустыне выжженного неба
Я вижу мертвую зарю
Из незакатного Эреба.
Уйдем… Мне более невмочь
Застылость этих четких линий
И этот свод картонно-синий…
Пусть будет солнце или ночь!..
На бумаге синей,
Грубо, грубо синей,
Но в тончайшей сетке
Раметались ветки,
Ветки-паутинки.
А по веткам иней,
Самоцветный иней,
Точно сахаринки…
По бумаге синей
Разметались ветки,
Слезы были едки.
Бедная тростинка,
Милая тростинка,
И чего хлопочет?
Все уверить хочет,
Что она живая,
Что, изнемогая –
(Полно, дорогая!) –
И она ждет мая,
Ветреных объятий
И зеленых платьев,
Засыпать под сказки
Соловьиной ласки
И проснуться, щуря
Заспанные глазки
От огня лазури.
На бумаге синей,
Грубо, грубо синей,
Раметались ветки,
Ветки-паутинки.
Заморозил иней
У сухой тростинки
На бумаге синей
Все ее слезинки.
Гул печальный и дрожащий
Не разлился – и застыл…
Над серебряною чащей
Алый дым и темный пыл.
А вдали рисунок четкий –
Леса синие верхи:
Как на меди крепкой водкой
Проведенные штрихи.
Ясен путь, да страшен жребий
Застывая онеметь, —
И по мертвом солнце в небе
Стонет раненая медь.
Неподвижно в кольца дыма
Черной думы врезан дым…
И она была язвима –
Только ядом долгих зим.
Я на дне, я печальный обломок,
Надо мной зеленеет вода.
Из тяжелых стеклянных потемок
Нет путей никому, никуда…
Помню небо, зигзаги полета,
Белый мрамор, под ним водоем,
Помню дым от струи водомета
Весь изнизанный синим огнем…
Если ж верить тем шепотам бреда,
Что томят мой постылый покой,
Там тоскует по мне Андромеда
С искалеченной белой рукой.
На синем куполе белеют облака,
И четко ввысь ушли кудрявые вершины,
Но пыль уж светится, а тени стали длинны,
И к сердцу призраки плывут издалека.
Не знаю, повесть ли была так коротка,
Иль я не дочитал последней половины?..
На бледном куполе погасли облака,
И ночь уже идет сквозь черные вершины…
И стали – и скамья и человек на ней
В недвижном сумраке тяжЕле и страшней.
Не шевелись – сейчас гвоздики засверкают,
Воздушные кусты сольются и растают,
И бронзовый поэт, стряхнув дремоты гнет,
С подставки на траву росистую спрыгнет.
Меж золоченых бань и обелисков славы
Есть дева белая, а вкруг густые травы.
Не тешит тирс ее, она не бьет в тимпан,
И беломраморный ее не любит Пан.
Одни туманы к ней холодные ласкались,
И раны черные от влажных губ остались.
Но дева красотой по-прежнему горда,
И трав вокруг нее не косят никогда.
Не знаю почему – богини изваянье
Над сердцем сладкое имеет обаянье…
Люблю обиду в ней, ее ужасный нос,
И ноги сжатые, и грубый узел кос.
Особенно, когда холодный дождик сеет,
И нагота ее беспомощно белеет…
О, дайте вечность мне, – и вечность я отдам
За равнодушие к обидам и годам.
Трилистник из старой тетради