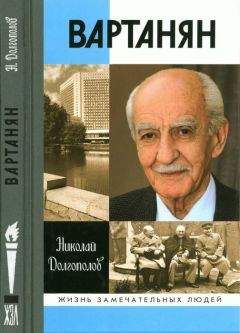Геннадий Жуков - Эпистолы: друзьям моим единственным
На электронном книжном портале my-library.info можно читать бесплатно книги онлайн без регистрации, в том числе Геннадий Жуков - Эпистолы: друзьям моим единственным. Жанр: Поэзия издательство -, год 2004. В онлайн доступе вы получите полную версию книги с кратким содержанием для ознакомления, сможете читать аннотацию к книге (предисловие), увидеть рецензии тех, кто произведение уже прочитал и их экспертное мнение о прочитанном.
Кроме того, в библиотеке онлайн my-library.info вы найдете много новинок, которые заслуживают вашего внимания.

Геннадий Жуков - Эпистолы: друзьям моим единственным краткое содержание
Эпистолы: друзьям моим единственным читать онлайн бесплатно
Жизнь, жизнь
А. Тарковский
Был старик велик и сед, в темных клочьях моха.
Ему столько было лет… Целая эпоха…
Ясным утром — белым днем — спрашивал дорогу:
«Пособи, сынок, огнем. Потерял, ей-богу».
Оглядел я чистый дол, ясная картина:
Ветер в поле бос и гол, ни креста, ни тына,
Ни тропинки, ни тропы, коршун в небе стынет.
Как ни выправи стопы — нет тропы в помине.
Волчий зык да птичий крик, то овраг, то яма…
Говорю: «…Иди, старик, все дороги — прямо».
И побрел старик слепой. Вижу — влево тянет,
Захлестнет стопу стопой — господа помянет.
Посох — что твоя слега — вязнет в диких травах.
А запнется, и нога тело тянет вправо.
Восемь бед — один ответ. Я его обидел.
Только впрямь дороги нет! Я сказал — что видел!
Нет тропы, дороги нет, рыскает эпоха,
Будто чует чей-то след, только чует плохо.
Как ни выправит стопы — то овраг, то яма.
А в нехоженой степи все дороги — прямо.
В полночь, когда вьюга выла и мела,
Звонарю подруга старца родила.
И лежал он молча на пустом столе,
И зияли молча два зрачка во мгле,
И сжимались молча пальцы в кулаки,
И мерцали волчьи белые клыки.
Он лежал и думал на кривом столе,
Проступала дума на кривом челе,
Все лежал и думал. «…Странные дела —
Звонарю подруга старца родила…
Глупые вы дети, мама и отец.
Расставляйте сети, мама и отец.
И поставьте черный у двери капкан.
Ждали вы мальчонку, а родился Пан.
Зачинал раб божий божия раба.
Понесла рабыня божия раба…
Да кишат рабами божьи небеса —
Я тряхну рогами и уйду в леса.
Посох мой наследный бросьте у дверей —
Я сломаю посох на число частей.
Крестик на гайтане бросьте мне за дверь —
Я свяжу гайтаном панскую свирель.
Не кричи, родная, ах, не голоси.
Вервие тугое, отец, не тряси —
Не слыхать за лесом материнских слов,
И проклятий отчих, и колоколов.
А пройдут все долга, и когда в апрель
Принесут к порогу теплую свирель,
Суженой верните панов самогуд —
Бросьте мою дудку в деревенский пруд».
И поздно радоваться и,
Быть может, поздно плакать…
Лишь плакать хохоча и хохотать до слез.
Я слышу горб. Ко мне вопрос прирос.
Я бородой козлиною оброс.
Я в ноги врос. Я рос, я ос, я эс
Напоминаю абрисом своим.
Я горб даю погладить и полапать.
Я грозди ягод вскинул на рога.
Я позабыл, где храм и где трактир —
И что же есть комедия, Сатир,
И в чем же есть трагедия, Сатир.
Я спутник толстобрюхих алкашей,
Наперсник девок пьяных вдрабадан.
Я в грудь стучу, как лупят в барабан,
И рокочу всей шкурою козлиной,
И флейту жму, и выпускаю длинный
Визгливый звук, похожий на кукан.
И на кукане ходит хоровод
И пьет и льет мясистая порода.
И что же есть комедия, народ?
И в чем же есть трагедия народа?
…Смотри, смешно, мы все идем вперед,
Комедия, мы все идем по кругу,
И трезвый фан в кругу своих забот —
Что пьяный фавн, кружащийся по лугу…
…Смотри, смешно, сюда ведут дитя,
Комедия, веселенькая штука,
Я вновь ее увижу час спустя,
Она повиснет на руке у внука…
О шире круг, поскольку дело швах!
В чем наша цель, не знает царь природы.
Меж тем — и ах! — проходят наши годы
В хмельных целенаправленных трудах.
И все страшней, все шире, все быстрей,
И дудка воет, как над мертвым сука:
Лишь мертвый выпадает из цепей,
А лица веселей и веселей. Но, боже мой,
какая мука…
Вот в трезвом опьянении ума
Бредет старик, заглядывая в лица,
По тощей ляжке хлопает сума,
Он позабыл, куда ему крутиться.
Он смотрит так, как будто виноват,
Он спрашивает, словно трет до дыр:
— Так в чем твоя комедия, Сатир?
— А в чем твоя трагедия, Сократ?
Нас много. Но идем мы друг за другом.
Мы, как быки, увязанные плугом,
Проходим по эпохам и векам.
Но, господи, кто там идет за плугом
И кто велит так напрягаться нам?
И если вдруг за плугом не идет,
Господь суровый с длинным кнутовищем,
Какой же черт толкает нас вперед,
Чего хотим мы и чего мы ищем?
Мы тянем, тянем лямку сквозь века
И, девственное поле бороздою
Размежевав на доброе и злое,
Заботимся, глубока ли строка.
Ах да, конечно, — воин задрожит
И повернет обратно колесницы,
Когда прочтет: не преступай границы!
Не преступай начертанной межи!
В военных целях, облил мальчика нефтью и поджег, чтобы увидеть горит ли в нефти тело
Из жизнеописания Александра Македонского
Ты взял Геллеспонт, как барьер. Буцефал
Медлительных персов топтал.
На звонких щитах Буцефал танцевал.
На спинах костлявых плясал.
Но вспомни: обугленным телом дрожа,
На скользких от нефти камнях,
Худыми ногами живая душа
Скребла эту слизь, этот прах…
Когда твой угрюмый железный конвой
Мальчишку — в багровом бреду —
Влачил по планете, он черной пятой
В земле пропахал борозду.
И мир разразился небесной водой,
И в русло вода натекла.
Меж воинской славой и славой святой
Навеки межа пролегла.
Назад! Захлебнешься горючей слезой.
Твой конь не пройдет над такою рекой.
Назад! Содрогнись, непреклонный герой,
Твой лик все ничтожнее день ото дня.
Убийца детей с узловатой рукой —
Таким ты останешься в скорби людской.
Ты взял Геллеспонт, но пред этой чертой
Сойдешь, Александр, с коня!
И была у Дон Жуана шпага
И была у Дон Жуана донна Анна
М. Цветвева
И была у мальчика дудка на шее, а в кармане ложка, на цепочке кружка, и была у мальчика подружка на шее — Анька-хипушка. Мальчик жил-поживал, ничего не значил и подружку целовал, а когда уставал — Аньку с шеи снимал и на дудке фигачил. Дудка ныла, и Анька пела, то-то радости двум притырочкам! В общем, тоже полезное дело — на дудке фигачить по дырочкам. А когда зима подступала под горло и когда снега подступали под шею, обнимались крепко-крепко они до весны. И лежали тесно они, как в траншее, А вокруг было полно войны… Война сочилась сквозь щели пластмассового репродуктора, война, сияя стронцием, сползала с телеэкрана. Он звук войны убирал, но рот онемевшего диктора — обезъязычевший рот его — пугал, как свежая рана.
И когда однажды вечером мальчик потянулся к Анне и уже встретились губы и задрожали тонко, там — на телеэкране — в Ираке или Иране, где-то на белом свете убили его ребенка. И на телеэкране собралась всемирная ассамблея, но не было звука, и молча топталисьони у стола. И диктор стучал в экран, от немоты свирепея, и все не мог достучаться с той стороны стекла. А мальчик весной проснулся. Проснулся рано-рано, взял на цепочке кружку и побежал к воде, он в кружку губами ткнулся, и было ему странно, когда вода ключевая бежала по бороде. А мальчик достал из кармана верную слою ложку влез в цветок своей ложкой — всяким там пчелам назло, — чтобы немножко позавтракать (немножко и понарошку), и было ему странно, когда по усам текло.
Тогда нацепил он на шею непричесанную свою Анну,
И было ему странно Анну почувствовать вновь.
Тогда нацепил он на шею офигенную свою дудку,
Но музыку продолжать было странно,
как продолжать любовь.
Он ткнулся губами в дудку, и рот раскрылся, как рана,
Раскрылся, как свежая рана.
И хлынула флейтой кровь.
Все струны любви на эоловой лире
Я в ночь без любви сосчитаю со скуки.
Но песню о мире — да, песню о мире —
Я буду играть на эоловом луке.
Ударю я воздух пустой тетивою:
Довольно постылой стрелковой науки!
Повейте хорошеньких женщин лозою —
Я буду играть на эоловом луке.
Что было для мести —
То будет для песни.
Сойдитесь же, лучники всех поколений, —
Пусть луки не созданы для песнопений —
Я буду играть на эоловом луке.
Пернатая смерть тетиву утруждала —
У лучников ваших натружены руки.
Довольно! — вас мало…
Довольно! — нас мало.
Я буду играть на эоловом луке.
Пусть бранная песня всей музыки старше,
Я бью тетиву — и отбой в этом звуке!
Две тысячи струн на эоловой арфе,
Но эта — одна! — на эоловом луке.
Ветер листья возжег, и вспыхнули листья.
Больно, любимая, больно…
Ветер тронул ковыль, и кони в степи закачались.
Не боли, любимая, не боли.
Отчего это вечная тяга к высокой печали?
Отчего это вечная тяга к высокой любви?
Мы с годами мудрее, добрее,
друг другом довольней…Кони тронули ветер,
качнулись в степи ковыли…
Это ты? Или это Она?
Больно, любимая, больно.
Это где-то высоко болит.
Не боли… Не боли…
Я стольких любимых оставил векам,
Годам и неделям, ночам и часам —
В тряпье и порфирах, во храме и хламе.
Они оставались в эпохе своей,
В теченье ночей и в течении дней.
И Хронос глотал своих бедных детей,
Давясь их сухими телами.
Я видел — мне тягостно зренье мое! —
Я видел, как строилось наше жилье.
И видел руины, руины…
Мне камень огромный служил алтарем,
Огонь совершался на камне, а в нем
Спекались рубины, рубины…
Был первый мой дом знаменит и высок.
Но вот я сквозь пальцы просеял песок
И я не нашел сердцевины…
Я стольких любимых оставил векам,
Годам и неделям, ночам и часам.
Я вышел.
Да, я их оставил здесь, в доме моем.
И вот я меж пальцев размял чернозем,
Но сердца я в нем не услышал.
Я непобедимее день ото дня,
Но смерть и любовь побеждают меня,
И я обнимаю, как гостью,
хозяйку в дому,
И пространство звенит.
Там Хронос бесценным рубином скрипит
И пес — пересохшею костью.
Ты просишь рассказать, какая ты…
Такая ты…
Такая ты… Вестимо —
Ты мне понятна, как движенье мима,
И как движенье, непереводима,
Как вскрик ладоней
И как жест лица…
И вот еще — мучения творца —
С чем мне сравнить любимую?
С любимой?
Я слово, словно вещего птенца,
Выкармливал полжизни с языка,
Из клюва в клюв: такая ты, такая…
Дыханьем грел: такая ты, такая…
И лишь сегодня понял до конца —
Тобой моя наполнилась рука.
Вот жест всепонимания людского!
А слово… Что ж, изменчивое слово,
Как птичий крик, вспорхнет и возвратится,
Изменчивости детской потакая,
Изменчивостью детскою губя.
И лишь прикосновенье будет длиться.
И только осязанье будет длиться.
Так слушай же: такая ты… такая…
О, слушай же, как я люблю тебя!
Вернись, тебя я попросил. Но ты уже вошла.
И подбежал к ногам сквозняк из дальнего угла.
И дрогнула у кресла ель, и медленно сошли
К подножью иглы, словно сель. А с уровня земли,
Из-за окна, где снег лежал каленее стекла,
Тянуло в дымное тепло поземку через щель.
Вернись, тебя я попросил, еще открыта дверь.
Вернись, тебя я попросил. Но ты уже вошла.
И руки мне на грудь легли. А из моей груди —
Навстречу им — ладони две мою прогнули грудь…
О, смилуйся, о, не входи в меня еще чуть-чуть.
Ты центром времени была, основой всех основ,
Как в центре солнечных часов блестящая игла,
Что тает в солнечных лучах и в мареве дрожит.
А тень на циферблат легла и здесь она лежит.
А тень на циферблат легла, закинув тени рук.
Мне тень обозначала час и означала день.
О, не входи на этот круг, любимая, мой прежний друг,
Ты — как собаку — уведешь возлюбленную тень.
Она на звук твоих шагов отозвалась во мне.
Ее ладони на груди — на этой стороне…
Ну, не входи. Войдешь — и там она прильнет к ногам,
И повлачится за тобой — по судьбам, по пятам.
Кто мне тогда означит час, чтоб, отвратив свой взгляд
От мельтешенья мелких строк, мне оглядеть закат?
И доглядеть, отворотив глаза от этих строк,
И развернуться в темноте ногами на восток.
Я ждал тебя всю жизнь свою, пойми,
От ожиданья стала неделимой
Любовь, а ты — лишь женщина любви,
Единожды — тобой — не утолимой.
Одна любовь. Одна любовь. Одна.
Я разные давал ей имена.
Вода — водой — воды — с водой — с водою…
Глупец. Они звучали чередою.
1
Мы вернемся однажды под закрытые веки.
Мы однажды — единожды — глаз не откроем
И останемся там, за сомкнутыми крепко очами.
И останутся здесь в осторожном молчанье
Пара квелых бутонов, томительный запах аптеки,
Односложные вздохи и скорбные люди.
Мы припомним ничто.
Мы, конечно же, что-то забудем.
Мы вернемся однажды в глухую пору дорожденья,
До дождя и до света, до снега, до слез, до ненастья,
До всего, что назвал я — единожды счастье.
Нас не станет, и это случится однажды…
Посмотри, мое сердце, какие великие горы,
Приглядись, мое сердце, какие великие снеги,
Изумись, мое сердце, какие великие реки
Обреченно сползают в долины с покатых вершин!
Но уйдем мы с томительным привкусом жажды.
Нас не станет, и это случится однажды.
И прикроется веком зеница души.
Мое тайное око,
Четвертое око,
Незримое око…
Я забыл вам сказать, что четыре мне глаза даны.
Смотрит вверх теменной — нет ли в тучах войны,
А глаза исподлобья глядят — то светло, то жестоко,
А зеница души на прохожих глядит одиноко
И призывно мерцает, как шепот среди тишины.
2
Мое тайное око,
Четвертое око,
Незримое око…
Вкруг да рядом — машины, деревья, дома.
А в машинах — бензин,
А в деревьях — биение сока,
А в домах этих — люди.
А в людях царит кутерьма.
А я вижу душой, как слетают с карнизов
И восходят из окон, как смех или снег,
Сизокрылые мысли и помыслы тех,
Кто бездарно влюблен и беспечно крылат.
И я вижу кромешный порядок и лад
В тучных стаях, что наземь из окон летят;
Каждый сизый цыпленок на вертел нанизан
И хурмой фарширован, как толом снаряд.
Ах, едальные птицы едальных утех,
Заклинаю: фен-хель-кар-дамон-ба-стурма,
Возвращайтесь, роняя подливу, в дома.
Только птицы крылатых летят задарма…
3
Только птицы крылатых летят задарма,
Задарма богатея и даром мудрея,
Я богаче не стал, и счастливей не стал,
И добрее.
Только стал терпеливей терпеньем ума.
И терпеньем ума я буравлю дыру в человеке,
И терпеньем ума за какие-то струны беру,
Как берут за грудки… Человек отвечает:…умру.
Я умру,
ты умрешь,
мы уйдем под закрытые веки.
4
Посмотри, мое сердце, какие великие горы…
Изумись, мое сердце, какие великие реки…
Бессмертья достоин представивший вечность.
Вобравший пучину — подобен пучине.
Но вспомнил я жизни своей быстротечность —
И зябнет душа моя в страхе отныне
И жалобно сердцу И сердце остынет,
И тело остудят текучие годы…
Но разум! Ужели же разум не минет
Зыбучая лава могильной породы?!
Собой бесконечность объявший, как точку,
Бессмертье вобравши, как длинное слово,
Мой череп вберет в себя мерзлую почву
И станет приютом червя дождевого.
И в страхе любовь сочиняют поэты,
И в ужасе рай сочиняют народы.
Когда же притянут природу к ответу
И смерть ей вменят как ошибку природы?
Доколе — бессмертной по дерзостной сути —
Душе на погост собираться во страхе?
Во страхе — во ужасе темном! — во жути,
В поношенном теле и чистой рубахе.
Вот так размеренно и праздно
Я выйду в степь на полчаса.
И вспомню: целесообразно
Глядит подсолнух в небеса.
Такое путаное слово,
Колеса — цепи — телеса…
Сообразуясь с целью снова,
Глядит подсолнух в небеса.
Я мыслил образно и разно,
Иные подбирал слова,
И все же целесообразно
Его качалась голова.
Скрипела хрупкая основа,
Скрипел тонюсенький скелет.
Не подбирая к солнцу слова,
Он отбирал у солнца свет.
Он свет вбирал открытым оком,
Он упивался им сполна.
И, наполняясь сытным соком,
Росли и зрели семена.
А мне-то что до этих звезд?
Глаза мне солнце ослепило —
Я не могу глядеть без слез
И на вечерние светила.
Но я гляжу на небо, зная:
Мне бесполезен этот свет, —
Предполагая цель, где нет
Ни цели, ни конца, ни края.
Что за дремучее желанье —
Глядеть без цели в небеса?
Что слово — целеполаганье?
Колеса — цепи — телеса…
У маленькой мамы в прорехи халата
Глядело набухшее нежное тело,
Носок бесконечный вязала палата,
Стенала — сопела — зубами скрипела.
Зачуханный доктор по розовым попкам
Похлопывал рожениц в знак одобренья,
И в этот же час совершались творенья
И квело вопили творенья.
Детей фасовали по сверткам, по стопкам,
И в мир вывозили носами вперед.
И был там один, он чуть было не помер (Не понял, как нужно дышать, но не помер),
Потом он смеялся — как льдинка в бокале —
А прочие свертки над ним хохотали:
Мол, экая штучка, мол, выкинул номер —
Не понял, как нужно дышать, но не помер,
Не понял, как нужно дышать, идиот (А он и не понял. И он не поймет).
Он будет глядеть им в лицо не дыша —
В мальчишечьи рты в пузырях и сметанах —
О выдох и вдох — два огромных шиша,
Два кукиша, скрученных в разных карманах,
Два страшных обмана… Пульсирует сон,
Как выдох и вдох неизвестной причины.
И он не дыша подглядел, как мужчины
Пульсируют мерно в объятиях жен,
И как равномерно пульсирует плод,
Гудит, наполняясь таинственным соком.
На все поглядел он задумчивым оком
И все он оплакал, смешной идиот.
А все потому, что за выдохом — вдох,
И вдох утекает в свистящие щели,
И шар опадает И лишь — асфодели,
Цикута — амброзия — чертополох.
И он в разбеганье вселенских светил
Увидел вселенских светил возвращенье.
И мир опадает. И только забвенье,
Забвенье — молчанье — клубящийся ил…
И он оглядел эту даль, эту ширь,
Да, он оглядел и сказал: это плохо!
И выдохнул, выдул вселенский пузырь,
И честно держал — до последнего вдоха.
В тот самый час, когда закат угас,
Он в глубь себя смотрел и видел там дорогу.
Она вела к означенному гробу,
И гроб стоял, как черный ватерпас
На линии. Прогнулся горизонт
Под тяжестью дубовой домовины.
Знакомые, печальные картины…
В нем смысл лежал, как зачехленный зонт.
И нужно было смысл — как зонт — раскрыть
И защитить всех от дождя и снега,
Сбить сено для случайного ночлега,
Огня добыть, едою накормить,
И что же? — что же дальше, черт возьми? —
Ужели же беседовать с людьми,
Что сыты и согреты и притом
Опоены наливкою с малиной?
Построить дом? Но он построил дом!
Он зонт у смерти взял, и это дом.
И вот они сидят степенно в нем,
И дым стоит над ними коромыслом.
Он говорит об этом и о том…
Но он слывет в округе болтуном,
Поскольку нужно молча рыть зонтом,
Стучать зонтом, и ковырять зонтом,
И с криком морды бить зонтом,
Но в этом он не видит смысла.
Мальчик, мечтаний и музыки полный,
В миг безотчетный направится к морю.
Камень заронит, и мелкие волны,
Чуть отбежав, затеряются вскоре.
Море сокроет все тонкие токи.
Вихри, свиваясь, сокроются в море.
И заколышется тайное горе,
Не распадаясь на брызги и строки.
Чувство вогнется в молчанье суровом,
Гулкая бездна — утроит рыданья —
Выпятит, выгнет хмельное страданье
С проседью пенной, со сдержанным ревом…Так опадает в глухую утробу,
Ищет в беспамятстве дно — и находит! —
И, оттолкнувшись, так слово восходит
От языка к онемевшему небу.
Не обольщайся, еще не искусство —
Голос, обложенный влажною ватой.
То продолжают свой бег бесноватый
Темное чувство и светлое чувство…
Видишь ли кромку? Коричневый гребень
Чаши, вобравшей штормленье вина?
Брюхо, что носит тугая волна,
Вскроет на кромке зазубренный кремень,
Рухнет волна пред тобой на колени.
Вспенится грива, сойдет седина.
Тело в песок просочится, а в пене
Встанет в истоме, потянется в лени
Девочка, тайных мечтаний полна…
Имя твое — победа. Волосы твои — ветер.
Я ладонью ловлю ветер — волосы твои глажу.
Имя твое — радость, слов я таких не знаю.
Знаю слова другие: плачут другими словами.
Имя твое мне было. Спал я и спал долго,
Спал и лицо прятал в темный огонь шалфея,
И укрывался мятой, и утолялся маком,
И обнимал пустырник — от пустоты хмелея.
Имя твое мне было. Соком душа наволгла —
Стал бы я травою, если б нашел отраву.
Но от земли хранило небо меня по праву —
Имя твое мне было. Кто-то сказал имя.
Я повернулся только, чтоб посмотреть в небо:
Все ли на месте звезды — стоит ли шевелиться.
Но подходили люди. Кто-то назвал имя.
Я протянул руку, помня, что ты птица…
1
Звезда покатилась. Звезда докатилась. Упала звезда. И канула в воды.
И от удара качнулась вода, и колыхнулись весы природы.
И, оттолкнувшись от чаши другой, солнце взошло с той стороны лета…
Нет-нет, не проговаривать, но петь: Леда моя, Леда…
2
В полых курганах — в тяжелых тиарах — цари
Впалые щеки свои прихватили зубами.
Это учтивость. Они не смеются. Кори
Ветер за ветер. Они не смеются над нами.
Это угрюмость земли, это чинность вождей
И величавость носителей высшего долга
Им не велят хохотать под бряцанье ножей
Над завереньями: вечно. Над клятвами: долго.
Вечно лишь Нечто, и бесконечно Ничто —
Леда моя, мы отпразднуем здесь восхожденье
Солнца и угасанье росы. И за то
Цадена будет нам вечность почти на мгновенье. Леда моя, уже полдень гудит, как гобой.
Вот ты клянешься: всегда! навсегда! и до встречи!
Вот ты клянешься. Нет, я не смеюсь над тобой.
Это учтивость. Уже приближается вечер.
3
Леда моя, Леда, несмышленыш.
Нет, не проговаривать, но петь:
Буковка, росиночка, люденыш.
Страсть, неотвратимая, как смерть.
Солнце докатилось, опустилось —
От удара дрогнула вода…
И звезда из глубины явилась.
И вернулась в вышину звезда.
Так было просто в прежние века:
Духовные отцы пеклися о морали,
Кресты страшенные высоко задирали
С навеки приколоченным Христом
И неразумным агнцам и овнам
Грозили указующим перстом.
А милые, но грешные поэты
Безнравственно кутили до рассвета
И, соблюдая разные манеры,
Болтались с балаболками по скверу,
И, насмерть застрелившись раз-другой,
Святым отцам безропотно грозили
Какой-нибудь заблудшею ногой.
Зачем же нас в один котел собрали. —
Поэтов и блюстителей морали?
Мы затеваем, словно постирушку,
Занудную, как проповедь, пирушку.
И я, мой друг, ловлю себя на том,
Что, левою рукой маня девицу,
Я праведной грожу себе десницей
И тычу указующим перстом!
Не путайте Эрота и Эрато,
Лукавого затейливого брата
И глупую, но честную сестру.
Не путайте Эрота и Эрато,
Не путайте великую игру
Мечты своей с ничтожностью желанья
Ей обладать.
Не сводничай, Эрот!
Пусть мимо эта женщина пройдет
В лучах светила, в охре светотени
Пусть лишь мелькнут колени, как форели,
Пусть лишь качнутся тяжкие бутоны
Исполненной желания груди.
Несносная Эрато, уходи!
Вослед тебе потянутся свирели,
Затеплются дрожащие фаготы,
Туманные гитары задрожат…
И пусть дурак, мальчишка, хвостопад,
Нам сводный твой подмигивает брат —
Ты знай дорогу, что тебе дана:
Вдоль длинного и низкого окна,
Вдоль улицы.
Вот ты еще видна.
Вот я могу, на цыпочки привстав,
О боже мой! увидеть на мгновенье
Шафранных складок легкое волненье.
Вот спутник твой, вцепившийся в рукав.
Вновь оглянулся и глядит, глядит,
Глядит назад в недоуменье…
1
На какой-то ветреной, ветреной дальней планете
Привязалась девочка к ветру, а он — только ветер.
Только буйный ветер — как хочешь его обнимай,
Налетит, нашепчет — как хочешь его понимай:
баю-бай… баю-бай…
Уж не знаю, что там с тем ветром у ней получилось.
Не случилось что-то, а может быть, что-то случилось.
Потерялся ветер — и с ветром такое бывает
Непонятно только. Но кто их, ветра, понимает?
И не знаю, что там, в безветрии, ей не хватало,
Только эта девочка ветреной девочкой стала.
Все искала ветер, шептала в похожие спины:
«Обернись, мой ветер!»
А он обернется… Мужчины…
2
Как-то пролетала сквозь облако с тайной улыбкой —
Привязалось облако к девочке тайною ниткой (Просто улыбалась, по ветру иль так, без причины).
Привязалось облако ниточкой из сердцевины.
Вот такая музыка, девочка — облако следом,
Августином, голубем, ангелом, просто соседом.
Обнимать пыталось, да облаку — как обнимать?
Понимать пыталось, да девочку — как понимать?
Напевает что-то… Как хочешь ее понимай:
баю-бай… баю-бай…
Птицу найдешь — как звать, не спросишь.
Птице — ей что ж, коли в небо подбросишь?
А с подругой дела, все глаза попрятали…
Углядел, что весела, не спросил — крылата ли.
Птицу поднимешь — голова кружится,
Птицу подбросишь — вот она и птица!
А подругу найдешь, в чисто поле выйдешь,
В небо подкинешь, а она — подкидыш…
Я спросил его: «Помнишь?
Ты помнишь еще Дон Кихота?
Он с бедою, с надеждою, с пыльной пехотой
В сорок первом ушел из села…
Как его Дульсинее — ты помнишь? — в пургу и разлуку
Ты отдал на растопку свои дорогие крыла?»
Я спросил его: «Помнишь,
Как ты опознал их по звуку —
По шуршанию дыма, с ладящего, словно зефир?»
(Эта женщина выжила. Полная чаша. И мир…)
Я спросил его: «Нешто,
Пока перемалывал эту военную муку,
Ты крылатую память людскую истер жерновами до дыр?»
Он ответил: «…Все бредишь, поэт, о севильях?..»
И умолк. Только лязгнуло эхо впотьмах.
Я прислушался — дон! —
Будто ветер бездомный стучится,
как память о крыльях.
Я прислушался — дон! —
Будто море, как память о небе, бушует в камнях…
Вначале яблоко… Здесь возникает плод
Из ничего, из света, из причины.
Она его торжественно берет
И проникает в плоть до сердцевины.
Вначале яблоко… Я помню этот жест
В тот смутный день судилища Париса.
О, как она свой приз достойно съест,
Раскинувшись под сенью кипариса.
И, вытряхнув три сердца на ладонь,
Сердца опустит в жертвенный огонь.
Вначале яблоко… Я помню вкус его
И запах на губах, и то мгновенье —
Грехопадение, и грехоискупленье,
И низость всех времен, и торжество.
…Библейские глаза твои люблю
За страстный час, за изгнанность из рая,
За то, что, холодея, обмирая,
Я путь земной — как путь земной терплю.
Брось в гроб мне яблоко —
Когда промерзший ком
О крышку приколоченную стукнет,
Когда последним сдавленным глотком
Моя душа кого-нибудь аукнет,
Когда окликнет нечто и ничто
Из вечной глубины, из глуби тленной:
«Ты был», я предъявлю его вселенной:
«Я был. Оно надкушено Еленой.
Я был и был знаком…»
Он так смешно говорит, бродяга:
«Я скучаю за тобой».
Не «по тебе» говорит бродяга, а «за тобой».
«Да-да, — говорит бродяга, — за тобою вослед».
А все потому, что бродяга он.
Стар он, а также сед.
А все потому, что бродяга он.
Князь неудельный, изгой.
И все, что есть у него, — любовь.
Но и любовь у него — с собой…
И вот он сидит, бродяга,
В странном твоем дому,
В нежном твоем тумане,
В белом твоем дыму…
Вьюга — в одном кармане,
В другом кармане — самум.
И говорит бродяга: «Я за тобой в тоске».
Так говорит бродяга и видит след на песке.
И говорит бродяга: «Я без тебя не могу».
Так говорит бродяга и видит след на снегу.
1
А мне бы музыку напомнить и напеть,
А я тебе напоминаю муку…
В другом краю я поднимаю руку,
Лицо твое пытаясь обогреть
Но пусть никто не смеет оглянуться
Из тех, кого ты за руку взяла.
Они огнем и светом захлебнутся,
И выжжет ревность бедные тела.
Пусть спят и спят, покуда это длится,
Пока, терзая страстью этот мрак,
Пылает пятипалая десница —
Звезда моя — мой возглас, звук и знак.
2
Откликнись мне ладонью на ладонь,
Луна моя, мой отраженный свет.
Ты ярче всех возлюбленных планет,
Луна моя, зеркальный мой огонь.
Того, кого ты выбрала в ночи,
Прижми к себе и обо мне молчи.
Пусть никогда не смеет он посметь
Прищурившись глядеть на эту руку.
Я и ему напомню эту муку,
А мне бы музыку напомнить и напеть.
Единственное слово затаскали —
Мне лишь уста осталось замарать.
Единственное чувство оболгали —
Его теперь Вы вправе презирать.
Надежда. Крах. Слова… Они, похоже,
Из тех, иных младенческих утех.
Лишь снисхожденье Ваше мне дороже
Вниманья многих и участья всех.
Того, что мир любовью называет,
Нет у меня. Пусть Вам другие лгут.
Но поклоненье душу поднимает
С колен. И мне угоден этот труд.
Не так ли звездный отблеск в мотыльке
Рождает зов в таинственные дали,
Туда — за круг обыденной печали,
Туда, туда, к тому, что вдалеке?
Возвращались на землю веселые люди с Земли,
Прикасались возлюбленно и удивленно смеялись.
И давали названья всему, к чему вдруг прикасались.
А потом разговоры — о том да о сем — завели.
Говорили возвышенно: что за высокий удел
В мире жить в этом мире,
Ну-ну вам, клыкатые звери!
Не убий, говорили.
И всяк после завтрака верил,
Но к обеду не верил, поскольку обедать хотел.
А веселые люди слагали смешные слова
В очень грустные строки
И строили строки в колонны.
И любили вино. Но, увы, не любили поклоны.
Потому, что от этого вечно болит голова.
А еще не любили, когда их заносят метели,
Но от сытной тоски вымирали в достойном дому.
Их назвали поэтами те, что обедать хотели.
Потому, что твердили: поэтому да потому.
Потому, говорили, любовь, что ты бог во вселенной.
Ну а кровь, говорили, затем, что ты зверь, и как встарь.
Но тебя, говорили, не бросим с душой убиенной.
А поэтому брось в меня камень, небесная тварь.
Жизнь понимая — как процесс,
Да возлюби певцов и графоманов!
Они живут на этом свете без
Целей, смыслов, умыслов, обманов
И, значит, заблуждений — в пользу зла.
Да, я не знаю лучше ремесла,
Чем забывать в процессе жизни смерть.
Я помню: запускается юла
Не с тем, чтобы всем вместе посмотреть,
Как там — в конце — она, гремя костьми,
Покатится меж малыми детьми,
Влетит под шкаф и там в пыли замрет.
Да, мальчикам заглядывал я в рот,
Когда вот так — открывши рот — в углу
Они крутили певчую юлу —
Без тайных смыслов, умыслов и без
Особых целей.
Да, я видел мальчуганов
Вращенье совершавших — как процесс.
И пенье понимавших — как процесс.
И возлюбил певцов и графоманов.
Войди в сей город, путник, без сомненья,
Как в дом радушный друга своего.
Он не ушел. Он вышел на мгновенье —
На два тысячелетия всего.
Такая бездна, милый мой.
Такая бездна звезд под нами!
Висим, качая головой,
В траве запутавшись ногами.
Здесь все зависло на корню.
Здесь были сосны на постое —
Да вот разжали пятерню
И в небо канули ночное.
И я крылат. Да не приемлю
Полет — как пришлую беду.
Вонзим же плуг в тугую землю
И пятки ввинтим в борозду!
Я жил тысячелетия назад.
Я умер Умер. И поверьте чуду —
Здесь был написан мой печальный взгляд
Сюда — в сей мир, где больше я не буду.
Ветра и орды шли через погост
И разносили пыль мою по свету
И вот гляжу на опустевший холст,
Как некогда с холста глядел на Лету.
Не уходи. Я жизнью заплачу
За твой побег…
Вернешься — не заплачу,
Не засмеюсь,
От ревности не вздрогну,
От боли от былой не закричу.
Любимая, все это не любовь!
Друзья поймут и все осудят снова.
Но выше понимания людского,
Любимая, вся эта нелюбовь.
Нам высший смысл ниспослан с высоты.
Смысл этой жизни странной и короткой,
Смысл жизни — жить!
Тебе я буду лодкой
Средь моря этой смертной суеты.
Как ты одна — печаль моя и страх, —
Как ты пойдешь по этой глубине?
Когда плывешь — зачем ты не во мне?
Когда я пуст — зачем я на волнах?
Надменный выгиб чужестранных плеч.
Изгиб бедра, прикрытый тканью длинной.
Когда б не речь — да, если бы не речь, —
Что б знали мы о женщине любимой?
И что нам знать о женщине дано?
Несу сосуд, встревоженно гадая:
Аспазия? Ксантиппа? Иль Даная?
Огонь в тебе — вино — или зерно?
Ну, что так смотришь, подбоченясь?
Ныне —
Не то вино. О, юности венец!
Наложницу, античную богиню,
Сарматам продавал тебя купец.
Сколь много уст знавало это тело…
Не то вино… И более того —
Прелестница! Как ты отяжелела
От жадности владыки своего…
«Ты бог, Гермес, а вертишься у трона.
Что Зевс тебе?» — «Мне кровь родная он…»
«Зачем ты скот украл у Аполлона?»
«Чтоб не заелся славный Аполлон —
Взамен коров ему я сделал лиру»
«Скажи, Гермес, ведь нынче ты богат,
Продай коров и сшей себе наряд,
Ну что ты голый шастаешь по миру?»
«…Но этот мир, он так наряден, брат…»
«Скажи, Гермес, ведь ты посланец неба,
Зачем ты покрываешь воровство?»
«Все люди, брат. Людское естество
Вина желает и желает хлеба».
«В твоей свирели музыка витает,
Ну что тебе желания людей?
Кто знает, что им нужно?»
«Прометей…
А что не нужно, даже он не знает…»
Сказал я: «Не понять твоей морали,
Позволь — перепишу все набело?»
А бог молчал. Нагой — как обокрали,
Тянул шнурок, аж челюсти свело:
Чинил свои крылатые сандалии
И хмурил олимпийское чело.
Конь багряный вошел. И смутилась душа…
Плавный слиток металла и томное око…
И смутилась душа. И душе одиноко.
Конь багряный вошел — и смутилась душа…
Столько меди певучей! И чудится — тронь,
И откликнется тело пугливое — конь!
Словно маленький колокол — конь!
…Что за дело мне в медной усмешке с жемчужным оскалом?
Что мне горн серебристый, заплавленный в горло?
Но тронь —
И смутится душа.
И наполнится певчим металлом.
И заноет задумчиво: «Конь…»
Я вложу удила в эти медные теплые губы,
И накину узду. И на спину литую взойду.
Встанет конь на дыбы. Серебристые звонкие трубы,
Словно раструб радара, окликнут над полем звезду.
Мне опустит звезда голубую холодную ленту.
И на тонком луче, оплетенный холодным лучом,
Раскачается колокол вместе с хмельным звонарем!
Раскачается колокол в небе с хмельным звонарем!
…Сколько круглых, пустых околесиц катал я по свету —
Прежде чем огласить эту степь колокольным конем!
И вот на смену нервному капрису
Снисходит гимн высоких звездных сфер,
И подступает небо к Танаису
Тремя рядами эллинских триер.
Струится дождь с освобожденных весел,
Когда над сонным градом их взметает
Жест кормчего! И блики на весле…
И с днищ морские звезды опадают
И дотлевают на сырой земле…
О, мне везет! И молод я, и весел!
Грядут в полнеба под бореем косо
Пленительные вина из Родоса —
Грядет в полнеб
Похожие книги на "Эпистолы: друзьям моим единственным", Геннадий Жуков
Геннадий Жуков читать все книги автора по порядку
Геннадий Жуков - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки My-Library.Info.
Эпистолы: друзьям моим единственным отзывы
Отзывы читателей о книге Эпистолы: друзьям моим единственным, автор: Геннадий Жуков. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.