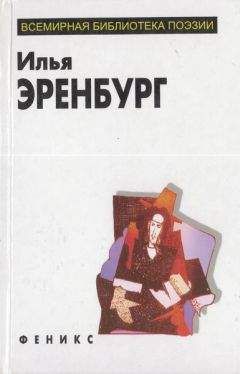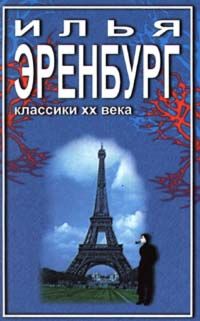Если моя душа в Париже не погибла, спасибо вам за это, Жамм! Спасибо! Еще кружат надо мной метели темными стаями, еще душа не смеет назвать Того, к Кому обращается. Но вы, нашедший для своей молитвы восторг непересохшего ручья, молясь за всех, немного помолитесь за то, чтоб мог молиться я!
Ноябрь 1913
30. «Боже, милый, ласковый…»
Боже, милый, ласковый, как ты мне близок минутами, как ты тешишь сердце сказками, сказками, прибаутками. Разве не дети мы, разве ты не балуешь нас грозами, дождями летними, сухими морозами?
Когда я большую собаку глажу и чую на руке ее язык горячий и влажный, за собакой, что меня робко лижет, я тебя, Господи, вижу.
Ноябрь 1913
31. «Если бы ты была козой…»
Если бы ты была козой, я бы выгонял тебя в поле, ходил бы за тобой и давал бы тебе соли.
Но ты не коза, а девушка, с гребенками, с платьями, с юбками, с пальцами слишком тонкими, с мечтами слишком хрупкими. И я боюсь с тобой говорить, боюсь заглянуть в твою душу, как дети боятся разбить дорогую игрушку.
Ноябрь 1913
32. «Звезд у Бога много…»
Звезд у Бога много — целый светлый рай, а ты у меня одна на свете, обожди, не умирай! А когда умрешь всё же и станешь звездой в раю, ты так скажи господу:
«Боже, исполни просьбу мою!»
Он исполнит, и ты вернешься ко мне назад в своей ночной рубашке, длинной, длинной до пят.
Я буду в твоей комнате тогда и, глядя на небо, скажу:
«Упала звезда!..»
Ноябрь 1913
33. «Полдевятого, пора в школу…»
Полдевятого, пора в школу. Ранец от книг тяжелый…
Допиваю кофе крупными глотками, темно еще, лампа горит. Хочется, перед тем как идти, забежать к маме.
«Ты не знаешь, мама спит?»
В темной спальне большой мраморный умывальник…
И теперь, после стольких лет разлуки, после стольких тяжелых лет, помню я, как утром мамины руки пахли мылом «Vera Violette».
Ноябрь 1913
34. «От лампы ровный круг…»
От лампы ровный круг, тихо вокруг. Только кто-то поднимается по лестнице громко, может быть, подойдет сейчас к двери и спросит:
«Эренбург, вы дома?»
Нет, никто не пришел. Я гляжу на заваленный книгами стол. Сколько за эти пять лет прожито, из нового ничего не вышло, а старое… старое ушло, и странно думать, что сейчас где-то в Москве на Остоженке мама сидит и пишет:
«Я послала тебе русский чай, смотри не простудись и не скучай…»
Ноябрь 1913
35. «Когда вы уйдете навек…»
Когда вы уйдете навек, я буду верить, как будто вы вышли из комнаты, не прикрыв плотно двери.
Когда вы уснете навек, я скажу вам:
«Спокойной ночи».
И сестрам скажу:
«Тише, папа спать хочет…»
Я скажу:
«Мама задремала в кресле. С ней нельзя говорить, но скоро мы будем вместе. Мы будем снова ждать папу к обеду в нашей столовой. Папа выйдет, взглянет своими добрыми близорукими глазами, от радости как-то выпрямится весь и спросит у мамы:
„А дети все здесь?..“»
Ноябрь 1913
36. «Иногда вспоминаю костры на снегу…»
Иногда вспоминаю костры на снегу, иногда даже их вспоминать не могу.
Утренний ветер марта особенно дик и свеж, но не двинется с места барка моих последних надежд. Погоди! Кто-то тащит весь непосильный груз…
Боже! Имя твое всё чаще срывается с этих уст…
(1914)
37. «В нежном свете гаснущего газа…»
В нежном свете гаснущего газа мелькают женщины, как летучие мыши. На улице пустой и влажной шелест тонкого шелка слышен.
Я сяду в маленьком баре, ко мне прилетит летучая мышь и скажет: «Ты снова печален, ты снова один сидишь».
Как тонко сделаны губы, средь позднего золота мак, и целую ночь я буду глядеть на их тайный знак
Будет тихо и пусто меж нами; жадно прильнув к стеклу, выпьет она сухими губами белую мутную мглу. Не станет абсента в стакане, не станет больше огней, и меня, и меня не станет со всей тяготой моей. И ярче на шляпе алого банта, и ярче на шее коралловых бус — раскроется дивная рана богом рассеченных уст.
Но утром опять, тяжела и бела, сквозь окна вольется мутная мгла. И будет утру чуждым и лишним последний взмах крыла летучей мыши.
(1914)
38. «Вечера, тенистые, как пальмы…»
Вечера, тенистые, как пальмы, вы всего понятней и родней.
Я опять слежу на площади зеркальной легкий бег испуганных огней. Как они убегают быстро, и за ними гонятся тени, похожие на огромных птиц; иногда расцветают на тонких стеблях нарциссы девичьих лиц.
Я стою, прислонившись к стеке, хорошо и покойно мне. Ласковый холод стены, дождик и запах весны, запах смутный, ненужный каждой маленькой лужи. Я половодья, и гула, и ветра не помню; у мокрой стены хорошо мне…
Только сны о золоте Рима я от теплых дождей берегу: круглые, они горят, как апельсины, на каком-то темном берегу.
(1914)
39. «Мы плясали с тобой долго…»
Мы плясали с тобой долго, как два дрессированных волка. Тоска-укротитель держала свой хлыст наготове, и это мы звали любовью.
Синяя стелется мгла. Зимний вечер ласков и чист.
Ты ушла… Я целую поломанный хлыст…
В книге оставляют закладку, чтобы опять опьяняться теми же страницами. Если б вернуться обратно к далекому, почти позабытому.
В эти ночи весенние на каком-то прочитанном скучном романе я пишу: «Флоренция, Флоренция», и буквы ранят.
Всё, что было хорошего в жизни, прошло среди низких холмов, где ветер гонит из Пизы стада небесных волов, где вечером у Арно тепло и сыро и дрожат огоньками лавочки ювелиров, где англичане бродят толпами, где закатами тихими и долгими, как свеча, горит кампанило за всю земную любовь, где вместе с нею мы были и где не будем вновь.
Так много — три года!.. И не вернуться обратно к далекому, почти позабытому…
Одна закладка меж двумя страницами…
(1914)
40. «Ты знаешь, Он не Добрый Пастырь!..»
Ты знаешь, Он не Добрый Пастырь! Я дик и, может быть, лукав, я ночью чую слишком часто дурман неукротимых трав. Я тонкую кору подрезал, чтоб выпить сок горячий и телесный, я тронул черное железо опавшего пустого леса. Падал я, глядя на желтые тучи, как им завидовал я! Веру в Него я мучил, как мальчик воробья.
Но Он в минуту заката мне дал вино тоски и тьмы, такое крепкое, что, выпив, я заплакал и вспомнил серые глаза Фомы.
Между январем и мартом 1914
Есть жизни, точно тонкие тропинки,
Они скрываются средь зелени густой,
Отравленные синей дымкой
И ускользающей мечтой.
Но жизнь моя — просторная дорога,
Она от пыли белая, она — навек.
Ты долго шел? Но дней у бога много!
И где привал? И где ночлег?
Еще давно, еще вначале,
Когда кусты мою дорогу прикрывали,
Когда казалось, что идти недалеко,
А если далеко, то так легко, —
Мне встретилась простая женщина.
Такая светлая и незаметная, как все,
Но птицы вдалеке звенели — легкие
бубенчики,
И было всё в росе.
Она мне отдала свое большое сердце,
Тяжелое, как все сердца.
Отдав его, закуталась в туман, померкла.
Но этот груз мне сладок до конца.
Она мне отдала свое большое сердце,
Тяжелое, как все сердца.
Март 1914
42. «Я сегодня вспомнил о смерти…»
Я сегодня вспомнил о смерти,
Вспомнил так, читая, невзначай.
И запрыгало сердце,
Как маленький попугай.
Прыгая, хлопает крыльями на шесте,
Клюет какие-то горькие зерна
И кричит: «Не могу! Не могу!
Если это должно быть так скоро —
Я не могу!»
О, я лгал тебе прежде, —
Даже самое синее небо
Мне никогда не заменит
Больного февральского снега.
Гонец, ты с недобрым послан!
Заблудись, подожди, не спеши!
Божье слово слишком тяжелая роскошь,
И оно не для всякой души.
Май 1914
43. «На холму унынье и вереск…»
На холму унынье и вереск,
И пастух на холму задремал.
Я знаю, ты не поверишь,
До чего я идти устал.
Рога окунули коровы
В красное море и спят.
Куда идти мне снова,
Когда потухает закат?
Где-то бубенчик звякнул,
Такой убитый.
Залаяла собака,
И снова всё тихо…
И если ты белый месяц увидишь —
Его не увидит пастух на холму.
И если споешь ты о прежней обиде —
Я песни твоей не пойму.
Июнь 1914