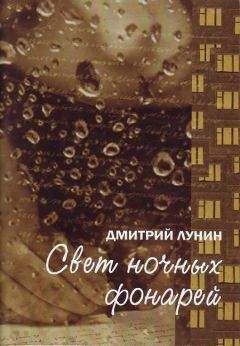в конце и ты была со мной согласна:
Спасти наш мир — не хватит красоты,
и Аннушке не по карману масло.
Приснился сон мне: улицы пусты,
от ветерка слегка шуршат кусты,
и тихим обезлюдившим двором
Раскольников идет за топором.
Идет он в хозтоварный магазин,
минут пятнадцать до него идти.
Идет, слегка волнуясь. Вдруг один
ему приятель встретился в пути:
поскольку тоже Гегеля учил,
в пивную Родиона затащил.
Пока они вдвоем в пивной сидят,
чего-то выпивают и едят,
минуты набегают на часах,
а «хозтовары» закрывают в шесть.
Раскольников, расплачиваясь сам,
проверил, что еще деньжата есть.
И — снова в магазин, ускорив шаг,
через дворы, чтобы не делать крюк.
Он успевает. Тяжело дыша,
бумажник достает из мятых брюк
и с продавцом вступает в разговор:
«Прошу, продайте мне вон тот топор».
А продавец: «Послушай, топора
не существует, как и нас с тобой,
не существуют завтра и вчера,
не существуют радость или боль,
не существуют также тьма и свет.
И Бога, к сожаленью, тоже нет.
Вокруг сплошная видимость и фарс,
эпохи блеф, крапленый туз судьбы,
не существует времени „сейчас“,
не существуют „будет“ или „был“.
И потому бесцелен разговор
о топоре или о чем другом».
Раскольников, слегка потупив взор,
выходит из хозмага. А потом
идет обратно, но другим двором.
Задумался, поскольку был неглуп,
все мысли устремив куда-то вглубь.
Не отплатить
за прошлое врагу,
ему грозить — что плюнуть против ветра,
поскольку он покоится в гробу
на глубине двух с половиной метров.
С могилы остается вырвать крест —
что для него, гадюки, слишком мало —
и, скромно озираючись окрест,
нести его
в приемный пункт металла.
Моему другу, ныне покойному
Нахлынет мысль,
как правило, некстати,
и в черепе заляжет, недвижима,
о том, что умирать в своей кровати
сложней,
чем в зоне строгого режима.
I
Слова перебирая кропотливо,
чтоб истинные отличить
от ложных,
ты чувствуешь,
что прыгаешь с трамплина,
а приземлиться правильно
не можешь.
Ценнее ощущение полета,
в конце паденья —
хоть разбейся насмерть…
А некролог расскажет, сколь почетно
чернила расплескать
на века скатерть.
II
Он
почерком небрежным и неточным
строй языка
почти что поломал.
И написал
так много слов и строчек,
что онемевшим кажется словарь.
Из строк обратно,
точно бумеранги,
наружу возвращаются слова…
Но грудой перепачканной бумаги
вся жизнь
пылится в ящике стола.
III
Издаться чтоб, обходишь кабинеты
и кланяешься в ноги сволочам.
Но презирает суматоху эту
издатель, что приходит по ночам.
Приходит сам — и голосом печальным,
но резко ощутимым, как ожог,
вам говорит, что будет вас печатать
всегда — и самым крупным тиражом.
«На договоре подпись лишь поставьте,
вот здесь», — и тычет пальцем в темный лист…
С рассветом улетучился издатель,
лишь запах серы в комнате повис.
Задачу вновь подкинула судьба,
которой нам неведомы маршруты.
Вот человек, покинувший пункт «А»,
не хочет больше ни в какие пункты.
Ведь в пункте «В» кому-то задолжал,
а в пункте «С» послал кого не надо.
Из пункта «D» так лихо уезжал,
что неудобно приезжать обратно.
Осталось лишь отправиться в пункт «Е»
на катере, что дремлет у причала.
Пускай там по колено все в говне,
зато, глядишь, и жизнь начнешь сначала.
Как заблудившийся охотник,
умирающий без воды,
ощущает нехватку сил
и не может дорогу найти обратно,
так и ноябрь устал,
и его заметая следы,
в белое
красит декабрь
розово-желтые пятна.
Я еще помню тебя,
но, как на испорченной фотографии,
черты твоего лица размыты,
да и моложе ты лет на десять.
Ты не осталась со мною,
должно быть, Богу мы чем-то потрафили,
а потом все наперебой говорили мне:
«Не расстраивайся, мир чудесен!»
Старая жизнь на тебе закончилась,
потом начинать приходилось заново
жизнь, где мечты о тебе
не должны были бы уместиться…
Прорисовывается подобие улыбки
на лице ноября
заплаканном.
И время зализывает воспоминания,
как зализывает раны волчица.
Как редактор известного журнала,
уволенный из-за пристрастия к алкоголю,
новый день, недовольный и хмурый,
все ищет место, куда б приткнуться.
Неудобно сидеть без дела.
Так и я постоянно прохожим глаза мозолю —
с бодрым видом, а никто не поймет,
что всего полчаса как проснулся.
Отражаюсь в витринах,
приятна витрин мне зеркальность,
да к тому ж в них стройней я
и выгляжу лет на двенадцать.
С гонораров полсотни
в дырявом кармане осталось,
только что там полсотни
при нынешних темпах инфляций!
В одиночку гуляю —
то не с кем,
а может, характером нелюдимый,
и второе, скорее, вернее,
одиночество — моя основа.
Встретив кого из знакомых,
свой взгляд направляю мимо.
А если спросят о чем,
то, к стыду своему,
очень долго
в ответ выбираю
цензурное слово.
I
Звук осени
похож на голос альта,
палитра — цвета ржавого гвоздя,
И взгляд скользит
по плоскости асфальта,
усеянной осколками дождя.
Меня здесь нет
и, видимо, не будет.
Осталась только призрачность,
мираж.
Другие состоявшиеся люди
к листу бумаги
тянут карандаш.
II
Осенний день уставшим ветераном,
не помня, чем окончилась война,
смиренно спит.
Уже не так пространны
и притягательны
ни виды из окна,
ни циферблат часов,
ни даже транспорт,
в котором все по-прежнему равны,
перемещаясь
лишь внутри пространства
одной
несуществующей
страны.
Воздух, впитавший влагу,
стоит столбом.
Падает лист
как тяжелый валун со скал.
Мир отпечатком ложится
в цветной альбом
или как блик
на поверхность кривых зеркал.
Ветер доносит
холод и лязг авто.
Сумерки длятся дольше,
чем можешь спать.
Пейзаж заполняет
надменно-угрюмый тон,
но кто-то найдется,
способный противостоять
ветру, погоде,
сумеркам, холодам,
листве, устремляющей бег
на асфальта гладь.
Он за тобой идет,
и к твоим годам
зерна от плевел научится
отделять.
Перекроит пространство он
от и до,
если успеет,
поскольку к исходу дня
вымоет дождь
отпечатки твоих следов
и искривится дорога,
назад маня.
Вряд ли успеет
найти для ночлега дом,
он позабыл, как шел,
он как черт устал…
Воздух, впитавший влагу,
стоит столбом.
Падает лист
как тяжелый валун со скал.