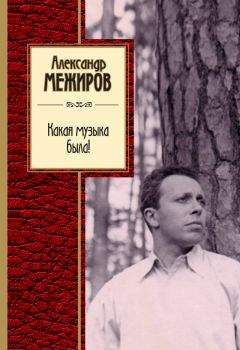Календарь
Покидаю Невскую Дубровку,
Кое-как плетусь по рубежу —
Отхожу на переформировку
И остатки взвода увожу.
Армия моя не уцелела,
Не осталось близких у меня
От артиллерийского обстрела,
От косоприцельного огня.
Перейдем по Охтенскому мосту
И на Охте станем на постой —
Отдирать окопную коросту,
Женскою пленяться красотой.
Охта деревянная разбита,
Растащили Охту на дрова.
Только жизнь, она сильнее быта:
Быта нет, а жизнь еще жива.
Богачов со мной из медсанбата,
Мы в глаза друг другу не глядим —
Слишком борода его щербата,
Слишком взгляд угрюм и нелюдим.
Слишком на лице его усталом
Борозды о многом говорят.
Спиртом неразбавленным и салом
Богачов запасливый богат.
Мы на Верхней Охте квартируем.
Две сестры хозяйствуют в дому,
Самым первым в жизни поцелуем
Памятные сердцу моему.
Помню, помню календарь настольный,
Старый календарь перекидной,
Записи на нем и почерк школьный,
Прежде – школьный, а потом – иной.
Прежде – буквы детские, смешные,
Именины и каникул дни.
Ну, а после – записи иные.
Иначе написаны они.
Помню, помню, как мало-помалу
Голос горя нарастал и креп:
«Умер папа». «Схоронили маму».
«Потеряли карточки на хлеб».
Знак вопроса – исступленно-дерзкий.
Росчерк – бесшабашно-удалой.
А потом – рисунок полудетский:
Сердце, пораженное стрелой.
Очерк сердца зыбок и неловок,
А стрела перната и мила —
Даты первых переформировок,
Первых постояльцев имена.
Друг на друга буквы повалились,
Сгрудились недвижно и мертво:
«Поселились. Пили. Веселились».
Вот и все. И больше ничего.
Здесь и я с другими в соучастье, —
Наспех фотографии даря,
Переформированные части
Прямо в бой идут с календаря.
Дождь на стеклах искажает лица
Двух сестер, сидящих у окна;
Переформировка длится, длится,
Никогда не кончится она.
Наступаю, отхожу и рушу
Все, что было сделано не так.
Переформировываю душу
Для грядущих маршей и атак.
Вижу вновь, как, в час прощаясь ранний,
Ничего на намять не берем.
Умираю от воспоминаний
Над перекидным календарем.
По вечерам,
с дремотой
Борясь что было сил:
– Живи, учись, работай, —
Отец меня просил.
Спины не разгибая,
Трудился досветла.
Полоска голубая
Подглазья провела.
Болею,
губы сохнут,
И над своей бедой
Бессонницею согнут,
Отец немолодой.
В подвале наркомата,
В столовой ИТР,
Он прячет воровато
Пирожное «эклер».
Москвой,
через метели,
По снежной целине,
Пирожное в портфеле
Несет на ужин мне.
Несет гостинец к чаю
Для сына своего,
А я не замечаю,
Не вижу ничего.
По окружному мосту
Грохочут поезда,
В шинелку не по росту
Одет я навсегда.
Я в корпусе десантном
Живу, сухарь грызя,
Не числюсь адресатом —
Домой писать нельзя.
А он не спит ночами,
Уставясь тяжело
Печальными очами
В морозное стекло.
Война отгрохотала,
А мира нет как нет.
Отец идет устало
В рабочий кабинет.
Он верит, что свобода
Сама себе судья,
Что буду год от года
Честней и чище я,
Лишь вытрясть из карманов
Обманные слова.
В дыму квартальных планов
Седеет голова.
Скромна его отвага,
Бесхитростны бои,
Работает на благо
Народа и семьи.
Трудами изможденный,
Спокоен, горд и чист,
Угрюмый, убежденный
Великий гуманист.
Прости меня
за леность
Непройденных дорог,
За жалкую нетленность
Полупонятных строк.
За эту непрямую
Направленность пути,
За музыку немую
Прости меня, прости…
«Мы под Колпином скопом стоим…»
Мы под Колпином скопом стоим,
Артиллерия бьет по своим.
Это наша разведка, наверно,
Ориентир указала неверно.
Недолет. Перелет. Недолет.
По своим артиллерия бьет.
Мы недаром Присягу давали.
За собою мосты подрывали, —
Из окопов никто не уйдет.
Недолет. Перелет. Недолет.
Мы под Колпином скопом лежим
И дрожим, прокопченные дымом.
Надо все-таки бить по чужим,
А она – по своим, по родимым.
Нас комбаты утешить хотят,
Нас великая Родина любит…
По своим артиллерия лупит, —
Лес не рубит, а щепки летят.
В следующем году было много побед.
Э. ХемингуэйТы пришла смотреть на меня.
А такого нету в помине.
Не от вражеского огня
Он погиб. Не на нашей мине
Подорвался. А просто так.
Не за звонкой чеканки песню,
Не в размахе лихих атак
Он погиб. И уже не воскреснет.
Вот по берегу я иду.
В небе пасмурном, невысоком
Десять туч. Утопают в пруду,
Наливаясь тяжелым соком,
Сотни лилий. Красно́. Закат.
Вот мужчина стоит без движенья
Или мальчик. Он из блокад,
Из окопов, из окружений.
Ты пришла на него смотреть.
А такого нету в помине.
Не от пули он принял смерть,
Не от голода, не на мине
Подорвался. А просто так.
Что ему красивые песни
О размахе лихих атак, —
Он от этого не воскреснет.
Он не мертвый. Он не живой.
Не живет на земле. Не видит,
Как плывут над его головой
Десять туч. Он навстречу не выйдет,
Не заметит тебя. И ты
Зря несешь на ладонях пыл.
Зря под гребнем твоим цветы —
Те, которые он любил.
Он от голода умирал.
На подбитом танке сгорал.
Спал в болотной воде. И вот
Он не умер. Но не живет.
Он стоит посредине Века.
Одинешенек на земле.
Можно выстроить на золе
Новый дом. Но не человека.
Он дотла растрачен в бою.
Он не видит, не слышит, как
Тонут лилии и поют
Птицы, скрытые в ивняках.
«О войне ни единого слова…»
О войне ни единого слова
Не сказал, потому что она —
Тот же мир, и едина основа,
И природа явлений одна.
Пусть сочтут эти строки изменой
И к моей приплюсуют вине:
Стихотворцы обоймы военной
Не писали стихов о войне.
Всех в обойму военную втисни,
Остриги под гребенку одну!
Мы писали о жизни…
о жизни,
Не делимой на мир и войну.
И особых восторгов не стоим:
Были мины в ничьей полосе
И разведки, которые боем,
Из которых вернулись не все.
В мирной жизни такое же было:
Тот же холод ничейной земли,
По своим артиллерия била,
Из разведки саперы ползли.
Без слез проводили меня…
Не плакала, не голосила,
Лишь крепче губу закусила
Видавшая виды родня.
Написано так на роду…
Они, как седые легенды,
Стоят в сорок первом году,
Родители-интеллигенты.
Меня проводили без слез,
Не плакали, не голосили,
Истошно кричал паровоз,
Окутанный клубами пыли.
Неведом наш путь и далек,
Живыми вернуться не чаем,
Сухой получаем паек,
За жизнь и за смерть отвечаем.
Тебя повезли далеко,
Обритая наспех пехота…
Сгущенное пить молоко
Мальчишке совсем неохота.
И он изо всех своих сил,
Нехитрую вспомнив науку,
На банку ножом надавил,
Из тамбура высунул руку.
И вьется, густа и сладка,
Вдоль пульманов пыльных состава
Тягучая нить молока,
Последняя в жизни забава.
Он вспомнит об этом не раз,
Блокадную пайку глотая.
Но это потом, а сейчас
Беспечна душа молодая.
Но это потом, а пока,
Покинув консервное лоно,
Тягучая нить молока
Колеблется вдоль эшелона.
Пусть нечем чаи подсластить,
Отныне не в сладости сладость,
И вьется молочная нить,
Последняя детская слабость.
Свистит за верстою верста,
В теплушке доиграно действо,
Консервная банка пуста.
Ну вот и окончилось детство.
Какая музыка была!
Какая музыка играла,
Когда и души и тела
Война проклятая попрала.
Какая музыка
во всем,
Всем и для всех —
не по ранжиру.
Осилим… Выстоим… Спасем…
Ах, не до жиру – быть бы живу…
Солдатам голову кружа,
Трехрядка
под накатом бревен
Была нужней для блиндажа,
Чем для Германии Бетховен.
И через всю страну
струна
Натянутая трепетала,
Когда проклятая война
И души и тела топтала.
Стенали яростно,
навзрыд,
Одной-единой страсти ради
На полустанке – инвалид
И Шостакович – в Ленинграде.
«Парк культуры и отдыха имени…»