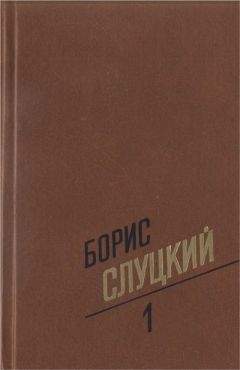«Отягощенный родственными чувствами…»
Отягощенный родственными чувствами,
Я к тете шел,
чтоб дядю повидать,
Двоюродных сестер к груди прижать,
Что музыкой и прочими искусствами,
Случалось,
были так увлечены!
Я не нашел ни тети и ни дяди,
Не повидал двоюродных сестер,
Но помню,
твердо помню
до сих пор,
Как их соседи,
в землю глядя,
Мне тихо говорили: «Сожжены…»
Все сожжено: пороки с добродетелями
И дети с престарелыми родителями.
А я стою пред тихими свидетелями
И тихо повторяю:
«Сожжены…»
«Земля, земля — вдова солдата…»
Земля, земля — вдова солдата.
Солдат — погиб. Земля живет.
Живет, как и тогда когда-то,
И слезы вод подземных льет.
Земля солдата полюбила.
Он молод был и был красив.
И спать с собою положила
Под тихим шелестеньем ив.
А то, что ивы шелестели,
Любилися они пока,
Земля с солдатом не хотели
Понять. Их ночь была кратка.
Предутренней артподготовкой,
Что затянулась до утра,
Взметен солдат с его винтовкой
И разнесли его ветра.
Солдат погиб. Земля осталась.
Вдова солдатская жива.
И, утешать ее пытаясь,
Ей что-то шелестит трава.
Еще не раз, не раз, а много,
А много, много, много раз
К тебе придут солдаты снова.
Не плачь и слез не лей из глаз.
Все, кто пали —
Геройской смертью,
Даже тот, кого на бегу
Пуля в спину хлестнула плетью,
Опрокинулся и ни гугу.
Даже те, кого часовой
Застрелил зимней ночью сдуру
И кого бомбежкою сдуло, —
Тоже наш, родимый и свой.
Те, кто, не переехав Урал,
Не видав ни разу немцев,
В поездах от ангин умирал,
Тоже наши — душою и сердцем.
Да, большое хозяйство —
война!
Словно вьюга, она порошила,
И твоя ли беда и вина,
Как тебя там расположило?
До седьмого пота — в тылу,
До последней кровинки —
На фронте,
Сквозь войну,
Как звезды сквозь мглу,
Лезут наши цехи и роты,
Продирается наша судьба
В минном поле четырехлетнем
С отступленьем,
Потом с наступленьем.
Кто же ей полноправный судья?
Только мы, только мы, только мы,
Только сами, сами, сами,
А не бог с его небесами,
Отделяем свет ото тьмы.
Не историк-ученый,
А воин,
Шедший долго из боя в бой,
Что Девятого мая доволен
Был собой и своею судьбой.
Когда война скатилась, как волна,
С людей и души вышли из-под пены,
Когда почувствовали постепенно,
Что нынче мир, иные времена,
Тогда пришла любовь к войскам,
К тем армиям, что в Австрию вступили,
И кровью прилила ко всем вискам,
И комом к горлу подступила.
И письма шли в глубокий тыл,
Где знак вопроса гнулся и кружился,
Как часовой, в снегах сомненья стыл,
Знак восклицанья клялся и божился.
Покуда же послание летело
На крыльях медленных, тяжелых от войны,
Вблизи искали для души и тела.
Все были поголовно влюблены.
Надев захваченные в плен убранства
И натянув трофейные чулки,
Вдруг выделились из фронтового братства
Все девушки, прозрачны и легки.
Мгновенная, военная любовь
От смерти и до смерти без подробности
Приобрела изящества, и дробности,
Терзания, и длительность, и боль.
За неиспользованием фронт вернул
Тела и души молодым и сильным
И перспективы жизни развернул
В лесу зеленом и под небом синим.
А я когда еще увижу дом?
Когда отпустят, демобилизуют?
А ветры юности свирепо дуют,
Смиряются с большим трудом.
Мне двадцать пять, и молод я опять:
Четыре года зрелости промчались,
И я из взрослости вернулся вспять.
Я снова молод. Я опять в начале.
Я вновь недоучившийся студент
И вновь поэт с одним стихом печатным,
И китель, что на мне еще надет,
Сидит каким-то армяком печальным.
Я денег на полгода накопил
И опыт на полвека сэкономил.
Был на пиру. И мед и пиво пил.
Теперь со словом надо выйти новым.
И вот, пока распахивает ритм
Всю залежь, что на душевом наделе,
Я слышу, как товарищ говорит:
— Вернусь домой —
Женюсь через неделю.
«Когда совались между зверем…»
Когда совались между зверем
И яростью звериной.
Мы поняли, во что мы верим,
Что кашу верно заварили.
А ежели она крута,
Что ж! Мы в свои садились сани,
Билеты покупали сами
И сами выбрали места.
На харьковском Конном базаре
В порыве душевной люти
Не скажут: «Заеду в морду!
Отколочу! Излуплю!»
А скажут, как мне сказали:
«Я тебя выведу в люди»,
Мягко скажут, негордо,
Вроде: «Я вас люблю».
Я был председателем класса
В школе, где обучали
Детей рабочего класса,
Поповичей и кулачков,
Где были щели и лазы
Из капитализма — в массы,
Где было ровно сорок
Умников и дурачков.
В комнате с грязными партами
И с потемневшими картами,
Висевшими, чтоб не порвали,
Под потолком — высоко,
Я был представителем партии,
Когда нам обоим с партией
Было не очень легко.
Единственная выборная
Должность во всей моей жизни,
Ровно четыре года
В ней прослужил отчизне.
Эти четыре года
И четыре — войны,
Годы — без всякой льготы
В жизни моей равны.
«Как говорили на Конном базаре?..»
Как говорили на Конном базаре?
Что за язык я узнал под возами?
Ведали о нормативных оковах
Бойкие речи торговок толковых?
Много ли знало о стилях сугубых
Веское слово скупых перекупок?
Что
спекулянты, милиционеры
Мне втолковали, тогда пионеру?
Как изъяснялись фининспектора,
Миру поведать приспела пора.
Русский язык (а базар был уверен,
Что он московскому говору верен,
От Украины себя отрезал
И принадлежность к хохлам отрицал),
Русский базара — был странный язык.
Я — до сих пор от него не отвык.
Все, что там елось, пилось, одевалось,
По-украински всегда называлось.
Все, что касалось культуры, науки,
Всякие фигли, и мигли, и штуки —
Это всегда называлось по-русски
С «г» фрикативным в виде нагрузки.
Ежели что говорилось от сердца —
Хохма жаргонная шла вместо перца.
В ругани вора, ракла, хулигана
Вдруг проступало реченье цыгана.
Брызгал и лил из того же источника,
Вмиг торжествуя над всем языком,
Древний, как слово Данилы Заточника[37],
Мат,
именуемый здесь матерком.
Все — интервенты, и оккупанты,
И колонисты, и торгаши —
Вешали здесь свои ленты и банты
И оставляли клочья души.
Что же серчать? И досадовать — нечего!
Здесь я — учился, и вот я — каков.
Громче и резче цеха кузнечного,
Крепче и цепче всех языков
Говор базара.
«Первый доход: бутылки и пробки…»
Первый доход: бутылки и пробки.
За пробку платят очень мало —
За десяток дают копейку.
Бутылки стоят очень много —
Копейки по четыре за штуку.
Рынок, жарящийся под палящим
Харьковским августовским солнцем,
Выпивал озера напитков,
Выбрасывая пробки,
Иногда теряя бутылки.
Никто не мешал смиренной охоте,
Тихим радостям, безгрешным доходам:
Вечерами броди сколько хочешь
По опустевшей рыночной площади,
Собирай бутылки и пробки.
Утром сдашь в киоск сидельцу
За двугривенный или пятиалтынный
И в соседнем киоске купишь
«Рассказ о семи повешенных».
Сядешь с книгой под акацию
И забудешь обо всем на свете.
Сверстники в пригородных селах
Ягоды и грибы собирали.
Но на харьковских полянах
Росли только бутылки и пробки.