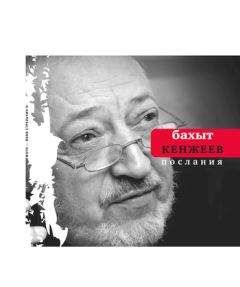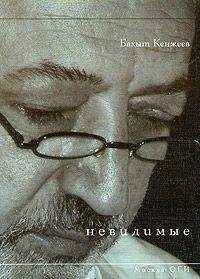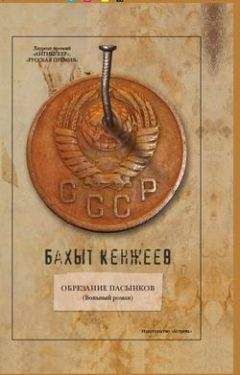ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ
I. «Что, молодой исследователь мой, глаза устали? Хочется домой?..»
Что, молодой исследователь мой, глаза устали? Хочется домой?
Так хороша! И доставалась даром. Предполагалось, что
была долга:
верховья Волги, светлые снега, и грустные прогулки
по бульварам,
и лыко – в строку, даже смерть – в строку. Остаток спирта,
горстка табаку,
и влажные возлюбленные очи. А что распродавалась
с молотка —
должно быть потому, что коротка, куда короче
петербургской ночи
на островах, в июне. Вещество дыхания не весит ничего.
Я был паяц, но преклонить колено умел, как взрослый.
Шёпотом, шутя,
скажу тебе, безусое дитя: бумага – прах, а музыка нетленна
и царствует, не чувствуя вины. Одна беда – чернила холодны,
и видишь, выбегая из больницы, – она уже уходит, будто ей
не нужно больше жалости твоей. Не обернётся и не повторится.
II. «По смерти, исхудал и невесом, бомбейский грешник станет смуглым псом…»
По смерти, исхудал и невесом, бомбейский грешник станет
смуглым псом,
а праведнику – перевоплотиться в пар
над рассветной заводью, в туман,
вздох детский, недописанный роман, в щепотку пыли,
то есть единицу
хранения. Пылающим кустом светясь,
услышишь осторожный стон
тех беглецов и их ночные речи, в корнях запутавшись,
в пустынных временах,
и усмехнёшься: грядка, пастернак, не заводи архива,
человече.
Не рифмовать – ночную землю рыть. Не обернуться,
и не повторить
считалки жалкой, если тем же рейсом взлетят твои бумаги
в тот же путь.
Закашлявшись, хватаешься за грудь и хрипло шепчешь —
кирие элейсон.
Нет, не буддист, но и тебя, сверчка, в бараний рог
запечная тоска
гнёт, голосит, бесплатным поит ядом. За всё про всё —
один противовес,
сагиб необитаемых небес, чернильных, хрупких,
дышащих на ладан.
«Если бы я умел, глухарь, непременно вздохнул бы и распахнул окно…»
Если бы я умел, глухарь, непременно вздохнул бы
и распахнул окно,
чтобы лучше услышать июльский дождь. Знаю-знаю, его октавы
слишком просты для знатока, слишком однообразны, но
я и сам незамысловатей прочих, какие уж там забавы —
не сложнее дождя, что идет на убыль, не лакомее обед,
чем у рублёвой шлюхи. Любой человек удручён,
полусчастлив, вечен.
Множество есть у него пристанищ – а ежели дома нет,
наживное, как говорится, дело, ножевое. Зябнут твои плечи
неприкрытые, зеркало светится, на поверку ещё кривей,
чем казалось вечером, простыни тяжелы сырые,
и под окнами в пять утра женский голос: «Матвей, Матвей!»
И секундой позже мужской, тоже отчаянный крик: «Мария!»
«От первой зимы до последней зимы…»
От первой зимы до последней зимы то злимся,
то спим, то юродствуем мы,
и дарятся нам безоткатные сны
от первой войны до последней войны,
пригубишь ли, выпьешь, допьёшь ли до дна —
восходит звезда, утекает она,
начало любви. Середина. Конец.
Кто отчим твой, старче, и кто твой отец?
«Перегори, покайся, помолчи, когда в двоякодышащей ночи…»
Перегори, покайся, помолчи, когда в двоякодышащей ночи,
похожей на любовную записку, перебираешь чётки тех времён,
где тёмных граждан юный фараон учил молиться
солнечному диску
Ещё Эсхил Шекспиру не писал, и подымался к жарким небесам
от жертвенников запах керосина. Заветный луч
в восторге обнимать.
Сгубить жену, но чтить царицу-мать, и казнь принять
от собственного сына.
Где дочери? Где внуки? Где отцы? Идут ко дну матёрые пловцы
во времени, музыка роговая – не роковая – щурится на блик
зари, и твой убыток невелик. Быть, изгибаться. Улочка кривая,
язык развалин, бедности, беды, двурогой жизни. Старые
сады спят молча, не испытывая страсти. И снова просишь,
но уже на том
наречии, в котором Эхнатон не разбирался: погоди, не гасни.
«Смеётся, дразнится, шустрит, к закату клонится…»
Смеётся, дразнится, шустрит, к закату клонится,
бьёт крыльями, шумит, и жалуется, что скучно.
Кто ты у нас – капустница? Лимонница?
Так суетлива, так прекраснодушна.
Лет восемьдесят назад в растраве питерской
тебя, летающую по будущим могилам,
узнав навскидку из окна кондитерской,
воспели б Осип с Михаилом,
они воскликнули б: «О Господи, жива ещё,
не верящая молоту и плугу!» —
и, поперхнувшись чаем остывающим,
взглянули бы в глаза друг другу.
Чем долго мучиться и роговицу заволакивать
балтийской влагой, ты обучишь сына
своих сестёр, как бабочек, оплакивать,
и превращать окраины в руины —
там диамант фальшив, как песня пьяного,
и царствуют старухи-домоседки —
кочевница моя, заплаканный каштановый
свет, спящий на октябрьской ветке.
«Взмолится дева, художник нахмурится, лебедь заменит на демона…»
Взмолится дева, художник нахмурится, лебедь заменит
на демона —
и побредёт привокзальною улицей – где я, откуда, зачем она?
Как же изогнуто небо родимое, как коротка
несравненная повесть!
Как же запутаны неисповедимые тропы Господние, то есть
так исковерканы, так измочалены – страшно,
полого ли, круто —
здравствуй, подвинься, начальник печальный —
и засыпаешь, как будто
к свежей болячке, ночью молочной, вдруг прижимаешь
с надеждой особой
лист подорожника с дачной обочины – дикорастущий,
нетрудоспособный.
«Прятки, салки да третий лишний. Есть о чём ещё погадать…»
Прятки, салки да третий лишний. Есть о чём ещё погадать
тем, кто ставил на промысел вышний, на господнюю благодать,
так одни, страстотерпцы пламенные, хлещут каменное вино,
а другим достаётся анима, словно выигрыш в домино —
словно приз дворовый и проигрыш – штукатурка, липы, стакан
белой головки. Ничем не покроешь эту участь, пыльный накал
сорокасвечовый. А время ёмкое пузырится, шипит, суля
топот конский да путь с котомкою. Что случилось с тобой,
земля,
отчего ты сыра и так негостеприимна? Скупа, гола.
Ах, любила – только не всякого. Не жалела, не берегла.
«В молодости – летать, лепетать, в зрелости – трезво судить, но зато уж потом…»
В молодости – летать, лепетать, в зрелости – трезво судить,
но зато уж потом
легче лёгкого – ни хлопот, ни любви обидной, ни выхлопного
газа из труб разбегающейся вселенной. Бомж из Лютеции
под мостом
Александра Третьего, зная об этом, потирает небритую щёку,
и снова
наполняет бумажный стакан приемлемым,
пусть и кисловатым, вином
из картонной коробки. Лей, не жалей, заводи приёмник,
дыши свободно,
если даже и хрипло. Гулять, так с музыкой.
За моим квадратным окном
американский закат, октябрь, такой же глубокий, как где угодно,
и такая элегия старомодная складывается помимо любой
воли, помимо кармина, злата и пурпура, первого —
безголосого, робкого
но всевластного – логоса. Пробормотать одышливо:
«Господь с тобой».
Не подводи. Я ещё хочу дремать на ходу, клюкою
нащупывая свою тропку
среди вековых осин, в криводушной, бескровной, пустой стороне,
которой я был обязан не так уж многим, но тем не менее,
где отрывистая музыка, словно слепому, отчётливо снилась мне,
кажется – клавесин, тонконогий, высокоголосый сын
Возрождения.
«Утром воскресным, под звон крутобёдрых колоколов…»
Утром воскресным, под звон крутобёдрых колоколов,
доносящийся с привокзальной площади, выйти глотнуть
свежего воздуха на балкон, и поёжиться, ни правильных слов
не находя, ни возгласа. Пасмурно в нашей провинции,
хорошо бы в путь
к ясновельможным краям, где остроколючий каштан
и грецкий орех
в тёмно-зелёной шкурке падают, катятся,
колотясь о щербатый гранит
мостовых. День, туманный и влажный, саднит,
как неотпущенный грех.
Ранит, оставит, пригубит, выпьет до дна,
без особой горечи побранит.
Прекращают любые колокола свой возмущённый гул,
да и я притих,
я, подёнщик (или подёнка), наизусть не помня молитвы,
словно один из нас,
собираю рябину и терпкие райские яблочки в сквериках,
с городских
беззащитных деревьев, пока ещё не стемнело. Который час?
Значит, близится вечер, следует выпить чаю
с вишнёвым вареньем, прилечь
на диван, не раздеваясь, и закурить, и смахнуть с ресниц
осеннюю паутину, продолжив листать учебник «Родная речь»
для говорящих бобров, бессловесной плотвы и невеликих,
но певчих птиц.
«Так долга и необратима, так требовательна, и всё-таки выкрикнуть „каюсь!“…»