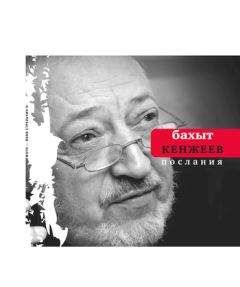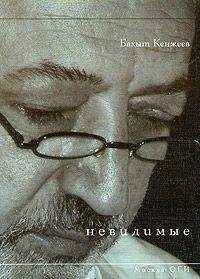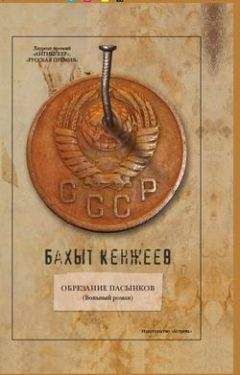«Утром воскресным, под звон крутобёдрых колоколов…»
Утром воскресным, под звон крутобёдрых колоколов,
доносящийся с привокзальной площади, выйти глотнуть
свежего воздуха на балкон, и поёжиться, ни правильных слов
не находя, ни возгласа. Пасмурно в нашей провинции,
хорошо бы в путь
к ясновельможным краям, где остроколючий каштан
и грецкий орех
в тёмно-зелёной шкурке падают, катятся,
колотясь о щербатый гранит
мостовых. День, туманный и влажный, саднит,
как неотпущенный грех.
Ранит, оставит, пригубит, выпьет до дна,
без особой горечи побранит.
Прекращают любые колокола свой возмущённый гул,
да и я притих,
я, подёнщик (или подёнка), наизусть не помня молитвы,
словно один из нас,
собираю рябину и терпкие райские яблочки в сквериках,
с городских
беззащитных деревьев, пока ещё не стемнело. Который час?
Значит, близится вечер, следует выпить чаю
с вишнёвым вареньем, прилечь
на диван, не раздеваясь, и закурить, и смахнуть с ресниц
осеннюю паутину, продолжив листать учебник «Родная речь»
для говорящих бобров, бессловесной плотвы и невеликих,
но певчих птиц.
«Так долга и необратима, так требовательна, и всё-таки выкрикнуть „каюсь!“…»
Так долга и необратима, так требовательна,
и всё-таки выкрикнуть «каюсь!»
не хватает времени. (Больше радости Господу об одном…)
Немая
сцена, как в «Ревизоре». Прошлое отдаляется,
по-стариковски спотыкаясь,
сутулясь, стыдясь своей нищеты и отсталости, понимая
что за последние тридцать лет стало
неисчислимо больше глянцевых
еженедельников, мусульман-камикадзе,
северокорейских реакторов на быстрых
нейтронах. Постепенно Италия, да и Англия,
стали заметно дороже Франции,
безвозвратно исчезли опасные бритвы
и приёмники на транзисторах,
даже пейджеры, еле успев войти в анекдоты
о новых русских, приказали
долго жить. Не говорю уж о бюстах Дзержинского,
о субботниках по уборке
малолюдных осенних парков, народных гуляниях,
шёлковом знамени в актовом зале
моей гулкой, пропахшей хлоркой школы у Патриарших.
Дело обычное. На задворки
бытия, в чуланы с кладовками, сбрасывается отжившее,
в мир иной
переселяются умники и лгуны, горбуны и красотки,
как предписал Всевышний,
и спесиво глядят в зеркала новые поколения, не замечая,
зачем ночной
дождь еле слышно стекает по облетающим веткам
бесплодной японской вишни.
«В этих влажных краях сон дневной глубок, словно блеск канала в окне…»
В этих влажных краях сон дневной глубок,
словно блеск канала в окне.
Отсырел мой спичечный коробок
с предпоследней спичкой на дне.
Что мне снилось? Север. Пожар. Раскол.
Колокольня стоит точильным бруском.
Додремал до оскомины, до печали – той, вечерней,
которой названия нет.
Гонит ветер с моря закатный свет. Сколько лет уже
ангелы не стучали
в нашу дверь. В этих влажных, узких краях,
где шарахаешься на стон
колокольный, любой православный прах превратится
в глину, любым крестом
осеняя тебя из своей подводной колыбели, я знаю,
что жизнь крепка,
словно слепок с вечности – но рука стеклодува движется
не свободно,
а расчётливо, покрывая хрусталь ночной пузырящейся
волглою пеленой,
и народ – от собаки до рыбака – тоже твёрдо уверен,
что жизнь сладка,
как глоток кагора в холодном храме. Что за плод
ты протягиваешь мне? Гранат.
В площадной трагедии или драме всё путём, словно месяц,
всходящий над
горбоносым мостиком, без затей и без грусти.
Как все – уснуть,
и взирать из заоблачных пропастей
на великий шёлковый путь.
«Да, у времени есть расщелины, выход для родниковой тоски…»
Да, у времени есть расщелины, выход для родниковой тоски
через тесные помещения и невысокие потолки,
виноградники, палисадники, окна узкие, пузыри
бычьи в рамах, крестьянские ватники, апельсиновый луч зари —
ах, пускай ничего не сбудется – хорошо голосить налегке,
так лоза, искривляясь, трудится на иссушенном известняке,
наливаясь хмельною яростью (что, товарищ, старьё – берём?)
перед тем, как её за старостью тёмнодышащим топором
срубят, выкорчуют к чёртовой матери и посадят другую лозу
Почему я был невнимателен? Почему в ночную грозу
пил не римское, а советское и дымил дурным табаком?
Посиди со мной. Время – детское. Я ни с кем ещё не знаком,
только рифмы бедные, как мышата, жмутся, попискивают,
словно им
нет ни адреса, ни адресата. Посиди со мной, поговорим
посумерничаем, подружка кроткая, если полночь – твоя взяла —
не плеснёт виноградной водкою в опустевшие зеркала.
«И я хотел бы жить в твоём раю – в полуподводном, облачном краю…»
И я хотел бы жить в твоём раю – в полуподводном,
облачном краю,
военнопленном, лайковом, толковом, где в стенах трещины,
освоив речь с трудом,
вдруг образуют иероглиф «дом» – ночной зверёк
под крышей тростниковой.
Там поутру из пыльного окна волна подслеповатая видна,
лимон и лавр, о молодых обидах забыв, стареют,
жмутся к пятачку
дворовому. И ветер начеку. И даже смерть понятна,
словно выдох.
И я хотел бы молча на речном трамвайчике, рубиновым вином
закапав свитер, видеть за кормою земную твердь.
Сказать: конец пути,
чтобы на карте мира обвести один кружок —
в провинции у моря.
Ах, как я жил! Темнил, шумел, любил. Ворону – помнил,
голубя – забыл,
Не высыпался. Кто там спозаранок играет в кость,
гружёную свинцом,
позвякивая латунным бубенцом – в носатой маске,
в туфельках багряных?
«Одинокое облако по небу не спеша уплывает – домой…»
Одинокое облако по небу не спеша уплывает – домой,
вероятно. Налей мне чего-нибудь горячительного, ангел мой,
чтобы жизнь не осталась занозою и обузою – правда, налей.
Что мне делать с зимующей музою,
с растерявшейся музой моей?
Что мне делать, когда я в истерике – а казалось,
что всё по плечу, —
по Европе, России, Америке, будто брошенный камень, лечу,
и в воздушном обиженном княжестве, словно косный
и мёртвый предмет,
несговорчивой силою тяжести утешаюсь на старости лет?
«Зимой в Венеции туристы топ да топ, кто в чёрных домино, кто нацепил личину…»
Зимой в Венеции туристы топ да топ, кто в чёрных домино,
кто нацепил личину
печальную. О град, стеклянный гроб утопленницы.
Страсть неотличима
от ненависти – или всё не так, и ты ошибся, странник?
Твой напарник
разглядывает решетки, на мостах застаивается.
В краях высокопарных,
и в низменных краях, и в неизменных —
ложь помножена на ложь, присыпана могильной
землёй. Вот наша жизнь – пригубишь ли, прольёшь,
прокрутишь ли любительскою фильмой
восьмимиллиметровой – мокрый мел на мостовых,
и звуков, как в помине.
Бесчинствовал, храбрился, не посмел,
как ряженые простодушные… Отныне
не благоденствуй, медную доску протрави соляной кислотой,
рыдай, предайся пьянству,
но только не молчи, не вычитай любви из времени,
отлива – из пространства.
Да, человек пред Богом нагл и гол, с водою крепкою,
с непросветлённым ликом,
он слово мясопуст запомнит, как глагол —
в прошедшем времени, в отчаянье великом,
вдохнёт мукой обсыпанную тьму в овальном зеркале,
в неправде карнавальной —
и кто-то в маске ибиса ему артерию пробьёт
иглой гравировальной.
«Не плачь – бумага не древней, чем порох…»
Не плачь – бумага не древней, чем порох,
и есть у радости ровесник – страх
в заиндевевших сумрачных соборах,
где спят прелаты в кукольных гробах.
Пусть вместо моря плещет ветер синий
по горным тропкам. Словно наяву,
следи за кронами качающихся пиний
и не молись ни голубю, ни льву.
И где-то в виннокаменной Тоскане
жизнь вдруг заговорит с тобой сама
о смысле ночи, набранном значками
орхоно-енисейского письма.
«На площади Санта-Кроче ещё практически ни гостиниц…»
На площади Санта-Кроче ещё практически ни гостиниц,
ни тратторий. Большинство прохожих – мужчины.
Лысый священник с мобильником,
оттопырив мясистый мизинец,
еще не дует на пенку чуть тёплого каппучино.
Медленно сохнет фреска под перекрестьем
известняковых арок.
Новая власть, похоже, не слишком жестока
и не чрезмерно лжива.
Кое-кто из вселившихся в дом Алигьери ещё помнит старых
хозяев. Сыновья сукновалов и ювелиров
ещё не подлежат призыву.
Лестная рукопись? Подана в канцелярию Медичи. У эшафота
с подозрительно тихим видом дворняга бродит худая.
Возвращайся в поместье, отставной секретарь республики, —
что ты,
словно казни, ищешь милости юного государя?
Люди бесчестны, ты сам писал, в том числе и те, кто
не прощает друг другу ни преданности, ни таланта.
Рвётся к небу светло-зелёный храм, словно тройная ветка
кипариса. Тебе ещё здесь лежать,
рядом с пустою могилой Данта.
«Разве музыка – мраморный щебень? Разве сердце – приятель земли?..»