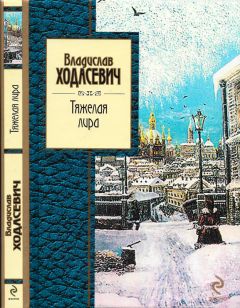ПИСЬМО («Листик, вырванный из тетрадки…»)[239]
Листик, вырванный из тетрадки,
В самодельном конверте сером,
Но от весточки этой краткой
Веет бодростью и весельем.
В твердых буквах, в чернилах рыжих,
По канве разлиновки детской,
Мысль свою не писал, а выжег
Мой приятель, поэт советский:
«День встает, напряжен и меток,
Жизнь напориста и резва,
Впрочем, в смысле свиных котлеток
Нас счастливыми не назвать.
Всё же, если и все мы тощи,
На стерляжьем пуху пальто,
Легче жилистые наши мощи
Ветру жизни носить зато!..»
Перечтешь и, с душою сверив,
Вздрогнешь, как от дурного сна:
Что, коль в этом гнилом конверте,
Боже, подлинная весна?
Что тогда? Тяжелей и горше
Не срываются с якорей.
Злая смерть, налети, как коршун,
Но скорее, скорей… Скорей!
«Ходил поэт и думал: я хороший…»[240]
Ходил поэт и думал: я хороший,
Талантливый, большой, меня бы им беречь!
И хлюпал по воде разорванной калошей
И жался в плащ углами острых плеч.
Глаза слезят от голода и яда,
В клыках зубов чернеет яма рта.
Уже вокруг колючая ограда
И позади последняя черта.
И умер он, беззлобный и беспутный,
Ночных теней веселым пастухом.
Друзья ночей, воры и проститутки,
Не загрустят о спутнике ночном.
Лишь море в мол из розового мрака
Плеснет волны заголубевший лед
Да мокрая бездомная собака
Овоет смерть собачью и уйдет.
ТЕНЬ («Весь выцветший, весь выгоревший. В этот…»)[241]
Весь выцветший, весь выгоревший. В этот
Весенний день на призрака похож,
На призрака, что перманентно вхож
К избравшим отвращение, как метод,
Как линию, — наикратчайший путь
Ухода из действительности, — тело
Он просквозил в кипевшую толпу,
И та от тени этой потускнела.
Он рифмовал, как школьник. Исключенья
Из правил позабытого значенья,
И, как через бумагу транспарант,
Костяк его сквозил сквозь призрак тела,
И над толпой затихшей шелестело
Пугливое: российский эмигрант.
ПРИЗРАКИ («Как недоверчиво и косо…»)[242]
«Взвейтесь, соколы, орлами,
Поздно горе горевать».
Солдатская песня
Как недоверчиво и косо
Из облаков глядит звезда!
Тайфун крупинками дождя
По глянцевитым лужам бросил.
Как разбежалась фонарей
Испуганная волчья стая!
Подстерегает у дверей
Вот эта тишина пустая.
Дома приземисты и злы,
В них люди сумрачны и строги.
Тоски линялые узлы
Загромоздили все пороги.
Мы постарели все. Уже
Мы телом так отяжелели.
По обязательной меже
Давно плетемся еле-еле.
И вдруг из этой тишины,
Из моросящей едкой пыли,
Приниженности лишены,
Два голоса внезапно всплыли.
Солдатской песенки слова,
Что нами в молодости пета…
И откачнулась голова,
Как от внезапной вспышки света.
Гремят шаги, звенят штыки,
Горят глаза, смеются лица:
Идут российские полки,
И над дорогой пыль клубится.
Поток шинелей ровно-сер…
«Эх, взвейтесь, соколы, орлами!»
Усатый унтер-офицер
Пронес суворовское знамя.
Неудержим могучий шквал
Потока этого людского.
Вот на коне прогрохотал
Гигант Паоло Трубецкого.
Куда империя стремит
Своих бойцов, к какой победе?
Но мгла черна, как динамит,
Изнемогая, полночь бредит…
Лишь в тучах тлеет синева,
Лишь ночь всё злей и неизвестней…
О, ядовитые слова
Родной простой солдатской песни!
Ужель навеки, навсегда?..
Пронизывающая сталь вопроса!
Китайский город. Ночь. Звезда.
Тайфун крупинками дождя
По глянцевитым лужам бросил.
СОСТЯЗАНИЕ БОГОВ (Глава из «Превращений» Овидия)[243]
Две тысячи упавших лет —
Ведь это там, где зрели мифы!..
…Жил замечательный поэт.
В изгнаньи умер он. И скифы
Сожгли его достойный прах.
…Не будь же, милый дух, в обиде,
Что речь твоя в чужих устах…
Теперь же говорит Овидий.
Властитель Фракии Мидас,
Оставив город свой веселый,
В лесные дебри навсегда
Ушел, и у подножья Тмола,
Горы с вершиной снеговой,
Живет, как Пан, соседом Пана,
Свирели ласковой его
Внимая ночью осиянной.
Бог козлоногий восхищал
Царя-отшельника игрою.
Из-за зеленого плюща
Он наблюдал за ним порою.
И видел, как нагих дриад
И нимф с росинками на коже
Свирельный легкокрылый яд
Вел к богу хитрому на ложе.
Раз, возгордясь успехом, Пан
Из той глуши, из мглы зеленой,
Собрав на влажный мох полян
Любовниц, вызвал Аполлона
На состязанье — был влюблен
В свое искусство бог коровий, —
И принял вызов Аполлон,
Хотя сурово сдвинул брови.
Арбитром призван старый Тмол,
Бог той горы, где всё случилось,
Он своевременно пришел,
Как в нем лишь надобность явилась.
В венке дубовом лоб. Со щек
Свисали желуди монистой:
Был Тмол и дряхл, и одинок,
И запах шел от бога мшистый.
И боле старый, чем гора,
Он заявил (уж все сидели):
«Судья готов, начать пора!»
И из пастушеской свирели
Пан звуки сладкие исторг,
Козлиной шкурой опоясан,
Повергнул песенкой в восторг
Царя-отшельника Мидаса.
Пан кончил. Божества лесов
И Тмол подняли взоры к небу:
Из туч блеснуло колесо
Блестящей колесницы Феба.
Парнасским лавром волоса
Украсил бог. И в пурпур Тира
(Зарозовели небеса!)
Его окрашена порфира.
Бог лиру левою рукой
Держал. В другой — смычок лучистый.
По самой позе мог любой
Признать в нем мастера, артиста.
Смычком по струнам он повел,
Взглянув на землю благосклонно.
Был очарован старый Тмол
Игрою Феба-Аполлона.
Игры такой, он объявил,
Еще не слыхивали в мире,
Венок победы присудил
Почтенный Тмол не флейте — лире.
Все согласились. В этот миг
Из темных чащ, где он скрывался,
Вдруг выскочил Мидас-старик
И на арбитра раскричался:
«Лицеприятен приговор,
Несправедлив ты, демон старый!»
Тмол обращает кроткий взор
На пришлеца, что в гневе яром
Готов браниться без конца,
И говорит, смеясь глазами:
«Какой же ты судья певцам,
О царь с ослиными ушами!»
Мидас касается рукой
Ушей, робея догадаться.
О боги, ужас, стыд какой —
Они в шерсти и шевелятся!..
Сияя смехом, мощно всплыл
К чертогам неба бог делосский:
Навек бессмертный наградил
Метой ослиной разум плоский!
Вопит Мидас: «Позор, беда!..
Как я наказан, дурень старый!»
И скрыл он уши навсегда
Богатой пурпурной тиарой.
Но мстит жестоко Аполлон
Тупицам, сыновьям бесславной
Бездарности, — и сделал он
Скрываемую глупость — явной.
Прислужник-раб, что подрезал
Царю власы мечом, случайно
Про уши длинные прознал,
И близится необычайный финал…
Боялся жалкий раб
Доверить тайну царской дворне,
На язычок же был он слаб, —
Общеизвестны рабьи корни!
И сделал так он: у ручья
Он вырыл ямку; в ночь глухую
Склонился к ней, в нее шепча
Про тайну царскую лихую.
Поднялся шелковый тростник,
И через год он стае птичьей
Поведал то, что царь-старик
Берег, как дева клад девичий.
Так сын Латоны Аполлон
Был отомщен в своей обиде,
О том поведал нам сквозь сон
Тысячелетний — сам Овидий.
И царь Мидас — он лишь клише,
Что вечной краскою не стынет…
Читатель, мало ли ушей
Ослиных видим и поныне?
НОВОГОДНИЕ ВИРШИ («Говорит редактор важно…»)[244]