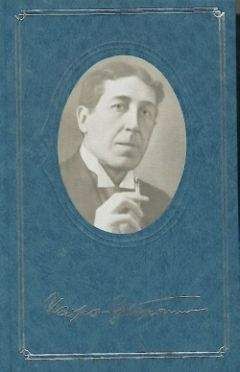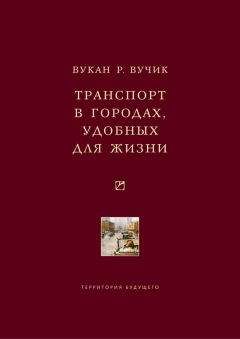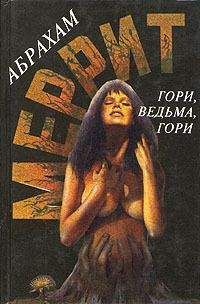Тойла. 5.II
Я испытал все испытанья.
Я все познания познал.
Я изжелал свои желанья.
Я молодость отмолодал.
Давно все найдены, и снова
Потеряны мои пути…
Одна отныне есть основа:
Простить и умолять: «Прости».
Жизнь и отрадна, и страданна,
И всю ее принять сумей.
Мечта свята. Мысль окаянна.
Без мысли жизнь всегда живей.
Не разрешай проблем вселенной,
Не зная существа проблем.
Впивай душою вдохновенной.
Святую музыку поэм.
Внемли страстям! природе! винам!
Устраивай бездумный пир!
И славь на языке орлином
Тебе — на время данный! — мир!
Тойла. II
Всегда-то грязный и циничный,
Солдатский, пьяный, площадной,
С культурным краем пограничный,
Ты мрешь над лужскою волной.
И не грустя о шелке луга,
Услады плуга не познав,
Ты, для кого зеркалит Луга,
Глядишься в мутный блеск канав.
Десяток стоп живого ямба,
Ругательных и злых хотя б,
Великодушно брошу, Ямбург,
Тебе, растяпа из растяп!
Тебя, кто завтра по этапу
Меня в Эстляндию пошлет,
Бью по плечу, трясу за лапу…
Ползучий! ты мне дал полет!
Ямбург. 9.III
Мы шли по Нарве под конвоем,
Два дня под арестом пробыв.
Неслась Нарова с диким воем,
Бег ото льда освободив.
В вагоне запертом товарном, —
Чрез Везенберг и через Тапс, —
В каком-то забытьи кошмарном,
Все время слушали про «шнапс».
Мы коченели. Мерзли ноги.
Нас было до ста человек.
Что за ужасные дороги
В не менее ужасный век!
Прощайте, русские уловки:
Въезжаем в чуждую страну…
Бежать нельзя: вокруг винтовки.
Мир заключен, но мы в плену.
Ревель. 14.III
И снова в хвойную обитель
Я возвращаюсь из Москвы,
Где вы меня не оскорбите
И не измучаете вы.
Вы, кто завистлив и бездарен,
Кто подло-льстив и мелко-зол.
Да, гений мудр и светозарен,
Среди бескрылых — он орел.
Как сердцу нестерпимо грустно
Сознаться в еловой тени,
Что мало любящих искусство,
Но тем ценней зато они.
Среди бездушных и убогих,
Непосвященных в Красоту,
Отрадно встретить их, немногих,
Кого признательно я чту.
Вы, изнуренные в тяжелых
Условьях жизни городской,
Ко мне придите: край мой ёлов,
В нем — Красота, а в ней — покой.
Тойла. 23.III
Отныне плащ мой фиолетов,
Берета бархат в серебре:
Я избран королем поэтов
На зависть нудной мошкаре.
Меня не любят корифеи —
Им неудобен мой талант:
Им изменили лесофеи
И больше не плетут гирлянд.
Лишь мне восторг и поклоненье
И славы пряный фимиам,
Моим — любовь и песнопенья! —
Недосягаемым стихам.
Я так велик и так уверен
В себе, настолько убежден,
Что всех прощу и каждой вере
Отдам почтительный поклон.
В душе — порывистых приветов
Неисчислимое число.
Я избран королем поэтов —
Да будет подданным светло!
Моя двусмысленная слава
Двусмысленна не потому,
Что я превознесен неправо, —
Не по таланту своему, —
А потому, что явный вызов
Условностям — в моих стихах
И ряд изысканных сюрпризов
В капризничающих словах.
Во мне выискивали пошлость,
Из виду упустив одно:
Ведь кто живописует площадь,
Тот пишет кистью площадной.
Бранили за смешенье стилей,
Хотя в смешенье-то и стиль!
Чем, чем меня не угостили!
Каких мне не дали «pastilles[2]»!
Неразрешимые дилеммы
Я разрешал, презрев молву.
Мои двусмысленные темы —
Двусмысленны по существу.
Пускай критический каноник
Меня не тянет в свой закон, —
Ведь я лирической ироник:
Ирония — вот мой канон.
«Приказчик или парикмахер,
Еще вернее: máitre d'hotel» —
Так в кретиническом размахе
Рычала критика досель.
За что? — за тонкое гурманство?
За страсть к утонченным духам?
За строф нарядное убранство?
Из зависти к моим стихам?
Но кто ж они, все эти судьи —
Холопы или мудрецы?
Искусством бились ли их груди?
Впускали ль их в, себя дворцы?
И знают ли они, что значит
Лиловый creme des violettes?
Постигнут ли, как обозначит
Свои рефрэны триолет?
Поймут ли, что гелиотропа
Острей «Crigoria» Риго,
Что, кроме Тулы, есть Европа
И, кроме «русской», есть Танго?…
Одно — сказать: «Все люди правы».
Иное — оправдать разбой.
Одно — искать позорной славы.
Иное — славы голубой.
Холопом называть профана
Не значит: брата — «мужиком».
Я, слившийся с природой рано,
С таким наречьем незнаком…
Любя культурные изыски
Не меньше истых горожан,
Люблю все шорохи, все писки
Весенних лесовых полян.
Любя эксцессные ликеры
И разбираясь в них легко,
Люблю зеленые просторы,
Дающие мне молоко.
Я выпью жизнь из полной чаши,
Пока не скажет смерть: «пора!»
Сегодня — гречневая каша,
А завтра — свежая икра!..
На «Сказках Гофмана», зимою,
Я был невольно потрясен
И больно уязвлен толпою,
Нарушившей чаруйный сон:
Когда в конце второго акта
Злодей Олимпию разбил,
Олимпию, — как символ такта, —
Чью душу Гофман полюбил,
И Гофман закричал от муки
(Ведь он мечту свою терял!) —
Нежданные метнулись звуки:
Вульгарно зал захохотал!..
Я побледнел. Мне больно стало
И стыдно, стыдно за толпу:
Она над драмой хохотала,
Как над каким-то «ки-ка-пу»…
И я не знал, куда мне деться
От острой боли и стыда,
И погрузился в интермеццо
Пред пятым актом — навсегда.
Кармен! какая в ней бравада!
Вулкан оркестра! Луч во тьме!
О, Гвадиана! О, Гренада!
О, Жорж Бизэ! О, Меримэ!
Кокетливая хабанера,
И пламя пляски на столе,
Навахи, тальмы и сомбреро,
И Аликант в цветном стекле!..
Застенчивая Микаэла
И бесшабашный Дон-Хозэ…
О ты, певучая новелла!
О Меримэ! О, Жорж Бизэ!
И он, бравурный Эскамильо,
Восторженный торреадор;
И ты, гитанная Севилья,
И контрабанда в сердце гор…
Кармен! И вот — Медея Фигнер,
И Зигрид Арнольдсон, и Гай…
Пускай навеки май их сгинул, —
Но он ведь был, их звучный май!
Пусть время тленно, и сквозь сито
Его просеяны лета, —
Она бессмертна, Карменсита,
И несказанно золота!
Дюма и Верди воедино
Слились, как два родных ручья.
Блистает солнце. Тает льдина.
Чья драма? музыка к ней чья?
Она дороже амулета
И для души, и для ума.
О, Маргарита — Виолетта,
В тебе и Верди, и Дюма!
Душа элегией объята,
В ней музыкальное саше:
То вкрадчивая Травиата,
Прильнувшая к моей душе.
Элементарна? Устарела?
Сладка? опошлена? бледна?
Но раз душа на ней горела,
Она душе моей родна!
Наивны сморщенные книги
Прадедушек, но аромат,
Как бы ни спорил Каратыгин,
Неподражаемый хранят.
Он, кстати, как-то в разговоре,
Пусть — полном едкого ума,
Поверг меня в большое горе,
Назвав «водицею»… Тома!