«Оттого, что родилась я в мае…»
Оттого, что родилась я в мае,
Тихим утром, на рассвете дня,
И навстречу мне взглянуло солнце
Северной холодною улыбкой;
Оттого, что я вчера читала
Кованые, звонкие стихи,
От которых сердце холодело,
От которых становилось больно
И, прочтя которые, хотелось
Крикнуть: «Больше ничего не надо!..»
И потом весь мир казался звонким,
Пряным, пестрым, в разноцветных бусах,
Точно в брызгах летнего дождя.
Оттого, что есть в короткой жизни
Молодость, поэзия и счастье —
Эта жизнь мучительно прекрасна.
1925
«Отговорил, отскандалил…»
Отговорил, отскандалил,
Остановил колесо.
Ушел в бестелесные дали
Раскольник из древних лесов.
И минуты в тревожной смене
Стали темны и страшны,
Когда закачался вдоль голой стены
В страшной петле — Сергей Есенин.
1925
«Мы бездомные, глупые дети…»
Мы бездомные, глупые дети
Из далекой, далекой страны.
На холодном, мглистом рассвете
Нам не снятся красивые сны.
И блуждаем мы, злые, больные,
Повторяя чужие слова,
Что себя бережем для России,
Что Россия как будто жива.
Мы в душе — и не ждем, и не верим,
По привычке — и верим, и ждем.
Ведь приятно грустить о потере
Под холодным и мутным дождем.
Но протянутся десятилетья,
За весною считая весну.
Мы — бездомные, глупые дети,
Возвратимся в родную страну.
Без надежды, без света, без силы,
Наученные долго молчать,
В край чужой, непонятный, но милый
Мы покорно придем умирать.
1925
Я помню,
Как в ночь летели звездные огни,
Как в ночь летели сдавленные стоны,
И путали оснеженные дни
Тревожные сцепления вагонов.
Как страшен был заплеванный вокзал,
И целый день визжали паровозы,
И взрослый страх беспомощно качал
Мои еще младенческие грезы
Под шум колес.
Я помню,
Как отражались яркие огни
В зеркальной глади темного канала,
Как в душных трюмах увядали дни,
И как луна кровавая вставала
За темным силуэтом корабля,
Как становились вечностью минуты,
А в них одно желание: «Земля!»
Последнее — от бака и до юта —
Земля… но чья?..
Я помню,
Как билось пламя восковых свечей
У алтаря в холодном каземате;
И кровь в висках стучала горячей
В тот страшный год позора и проклятья;
Как дикий ветер в плаче изнемог,
И на дворе рыдали звуки горна,
И расплывались линии дорог
В холодной мгле, бесформенной и черной,
И падал дождь…
1925
«Стучались волны в корабли глухие…»
Стучались волны в корабли глухие,
Впивались в ночь молящие глаза.
Вы помните — шесть лет тому назад
Мы отошли от берегов России.
Я все могу забыть: и боль стыда,
И эти годы темных бездорожий,
Но страшных слов: «Да утопи их, Боже!»[3]
Я в жизни не забуду никогда.
1925 (Из сборника «После всего», 1949)
Вы смеетесь, милый мой сосед?
Вас пьянят смеющиеся лица?
Электрический, тяжелый свет,
Женские мохнатые ресницы?
Вы смеетесь? Отчего у вас
Смех такой подчеркнуто-счастливый?
Чокнемся за одного из нас,
Здесь кричащих за бокалом пива.
Здесь светло, крикливо и смешно.
Губы в медленной улыбке стынут.
— А на севрских улицах темно.
— А на севрских улицах пустынно.
Змейкою дымок от папирос,
Взгляд веселый, и огни в тумане, —
Этот тонкий медленный наркоз
Рано или поздно одурманит.
Воздух бьет в раскрытое окно,
Тает смех и дерзкий и несмелый.
— Друг мой или недруг, все равно —
Чокнемся, пока не надоело?
1926
Переплески южных морей,
Перепевы северных вьюг —
Все смешалось в душе моей
И слилось в безысходный круг.
На снегу широких долин
У меня мимозы цветут,
А моя голубая полынь
Одинакова там и тут.
Я не помню, в каком краю
Так зловеще-красив закат.
Я не знаю, что больше люблю —
Треск лягушек или цикад.
Я не помню, когда и где
Голубела гора вдали,
И зачем на тихой воде
Золотые кувшинки цвели.
И остались в душе моей
Недопетой песней без слов
Перезвоны далеких церквей,
Пересветы арабских костров.
1926 (Из сборника «Стихи о себе», 1931)
«Мне нравилось солнце и душный сирокко…»
Мне нравилось солнце и душный сирокко,
И мягкие линии дальних гор,
И синее море, когда с востока
Пылал широкий багряный костер.
Любила библейность, когда на закате
Арабы водили овечьи стада,
И ветер трепал мое синее платье,
И кровью отсвечивала вода.
Но море, закат и маслинные рощи
Так просто, так радостно я отдала
За мелкий, ненастный,
Ленивый дождик,
За мутные капли по глянцу стекла.
1926
«Зацветают в Париже каштаны…»
Зацветают в Париже каштаны,
Как венчальные строгие свечи.
Опускается вечер туманный —
По весеннему дымчатый вечер.
За оградой туманного сада
Сумрак полон томленьем и ленью.
Лиловеют за ржавой оградой
Чуть расцветшие кисти сирени.
А уж сердце быть прежним не может,
Стало новым, взволнованно-странным —
Оттого, что в аллеях каштаны
На венчальные свечи похожи.
1927, Париж (Из сборника «После всего», 1949)
Мы миновали все каналы,
Большой и Малый Трианон.
Над нами солнце трепетало
И озаряло небосклон.
Мы отходили, уходили
Под сводом сросшихся аллей,
Не слышали автомобилей,
Не видели толпы людей.
И там в глуши, у статуй строгих,
Под взглядом их незрячих глаз,
Мы потеряли все дороги,
Забыли год, и день, и час.
Мы заблудились в старом парке —
В тени аллей, в тени веков.
И только счастье стало ярким,
Когда рванулось из оков.
1927 (Из сборника «Стихи о себе», 1931)
«Всегда все то же, что и прежде…»
Всегда все то же, что и прежде,
И пестрота больших витрин,
И кукольные лица женщин,
И жадные глаза мужчин.
Под сеткой закопченной пыли,
На тихом берегу реки
Скользящие автомобили
Швыряют наглые рывки.
Вдоль стен расхлябанной походкой,
С улыбкой лживой и ничьей,
Проходит медленно кокотка
В венке из солнечных лучей.
И в головном уборе клином
Монашка — Божья сирота —
С ключами на цепочке длинной
Влачит распятого Христа…
А я хочу — до боли — жить,
Чтоб не кляня, не хмуря брови,
Весь этот подлый мир любить
Слегка кощунственной любовью.
1927 (Из сборника «Стихи о себе», 1931)
Мы долго шли, два пилигрима,
Из мутной глубины веков,
Среди полей необозримых
И многошумных городов.
Мы исходили все дороги,
Пропели громко все псалмы
С единственной тоской о Боге,
Которого искали мы.
Мы шли размеренной походкой,
Не поднимая головы,
И были дни, как наши четки,
Однообразны и мертвы.
Мы голубых цветов не рвали
В тумане утренних полей.
Мы ничего не замечали
На этой солнечной земле.
В веках, нерадостно и строго,
День ото дня, из часа в час,
Мы громко прославляли Бога,
Непостижимого для нас.
И долго шли мы, пилигримы,
В пыли разорванных одежд.
И ничего не сберегли мы —
Ни слез, ни веры, ни надежд.
И вот, почти у края гроба,
Почти переступив черту,
Мы вдруг почувствовали оба
Усталость, боль и нищету,
Когда в тумане ночи душной
Нам обозначился вдали
Пустой, уже давно ненужный,
Неверный Иерусалим.
19 — VI — 1927
«Папоротник, тонкие березки…»




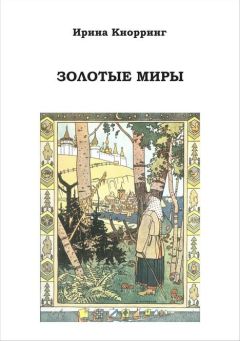
![Ирина Кнорринг - Повесть из собственной жизни: [дневник]: в 2-х томах, том 1](https://cdn.my-library.info/books/38165/38165.jpg)