«Умеренный, твердый, железный…»
Под снегом холодной России,
Под знойным песком пирамид…
М.Ю. Лермонтов
Умеренный, твердый, железный,
Презревший лишенья и страх,
Взлетающий в звездные бездны,
Ныряющий в темных морях,
Еще — победитель-удачник —
(«Куда только мы ни зашли!»)
Немецкий мечтательный мальчик
Гуляет но карте земли.
Он так подкупающе молод,
Так бодро шагает вперед,
Неся разоренье и голод
Повсюду,
Куда ни придет.
Его на бульварах Парижа
Так радует каждый пустяк:
Он губы застенчиво лижет,
Косясь на французский коньяк.
У пестрых витрин магазинов
Часами стоит, не идет,
Совсем по-ребячьи разинув
Свой красный, смеющийся рот.
А завтра, послушный приказу,
С винтовкой на твердом плече
Пойдет… и не бросит ни разу
Простого вопроса: «Зачем?»
Зачем ему русские вьюги?
Разрушенные города?
На севере или на юге —
Везде — непременно — всегда?
Зачем ему гибнуть и драться
Среди разрушений и бед,
Когда за плечами лишь двадцать
Восторгом обманутых лет?
Неужто такая отрада —
Недолгих побед торжество?
Ведь запах смолы из Шварцвальда
Уже не коснется его.
И над безымянной могилой
Уже не поплачет никто.
Далекий, обманутый, милый…
За что?
1942, 18 января
«В открытом окне трепетали холодные звезды…»
В открытом окне трепетали холодные звезды.
Скользили, клубясь, над зигзагами крыш облака.
Был гулом моторов насыщен томительный воздух,
И мягкие взрывы, как гром. И сжималась рука.
Сверкающий луч опоясывал небо сияньем,
Назойливо шарил и снова соскальзывал прочь,
И, камень за камнем, огромные серые зданья
Беспомощно рушились в истинно звездную ночь.
В глубоких подвалах не спали усталые люди,
Над городом темным сияла бесстрастная твердь.
И в звездное небо громоздкие дула орудий
Со злобой плевали тяжелую, страшную смерть.
1942
«Темнота. Не светят фонари…»
Темнота. Не светят фонари.
Бьют часы железным боем где-то.
Час еще далекий до зари,
Самый страшный час — перед рассветом.
В этот час от боли и тоски
Так мучительно всегда не спится.
Час, когда покорно старики
Умирают в городской больнице.
Час, когда, устав от смутных дел,
Город спит, как зверь настороженный,
А в тюрьме выводят на расстрел
Самых лучших и непримиренных.
1942 (Из сборника «После всего», 1949)
В предреволюционные годы Н.Н.Кнорринг был директором гимназии в Харькове. О его роли в воспитании братьев Дунаевских, у него учившихся (впоследствии известных деятелей нашей культуры) писал не так давно З.О.Дунаевский. Николай Николаевич опубликовал интересные воспоминания о И.О.Дунаевском, который пытался помочь ему в пору изгнания. В последние годы жизни в Алма-Ате Н.Н.Кнорринг сотрудничал в журнале «Простор», в местных газетах. Писал рецензии, воспоминания (о Бальмонте, о невесте Александра Ульянова Шмидовой, о Тургеневской библиотеке в Париже и др.) Историк по специальности, он является автором монографии о M.Д. Скобелеве (Париж, 1932).
Ирина Кнорринг. Новые стихи/Предисловие А.Жовтиса. — Алма-Ата: «Жазушы», 1967. Тираж 5000 экз. Нелепое название вызвало недоумение критики («Новый мир», парижские «Русские новости»).
Писать Ирина Кнорринг начала рано (8 лет). Детские стихи ее, сочиненные еще в России, здесь не представлены, но я счел возможным открыть сборник строчками, написанными четырнадцатилетней девочкой на корабле «Генерал Алексеев», в виду Стамбула, когда покинувшая Крым русская эскадра ожидала разрешения турецких властей на выход в Средиземное море. Следующие далее стихи 1922 — начала 1925 гг., писались в Тунисе, все остальные (за исключении тех, которые имеют специальные пометки) — в Париже.
Два небольших сборника были подготовлены и опубликованы самой поэтессой («Стихи о себе», Париж, 1931, и «Окна на север», Париж, 1939). Сборник «После всего», содержавший стихотворения разных лет, составленный Н.Н.Кноррингом и с его предисловием, вышел также во Франции в 1949 году. Общий тираж все трех книжек не превысил 750 экземпляров.
Литературное наследие поэтессы было собрано и тщательно систематизировано Н.Н. Кноррингом в шести машинописных тетрадях, послуживших основным источником при составлении этой книги, в которую вошла лишь небольшая часть содержащихся в них стихотворений.
Н.Н. Кнорринг рассказывал, что когда «Генерал Алексеев» отходил от севастопольского причала, на берегу раздались проклятья в адрес отъезжающих.




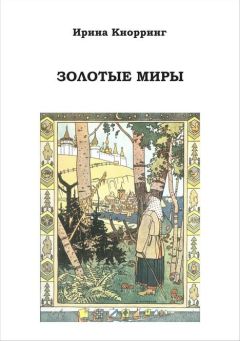
![Ирина Кнорринг - Повесть из собственной жизни: [дневник]: в 2-х томах, том 1](https://cdn.my-library.info/books/38165/38165.jpg)