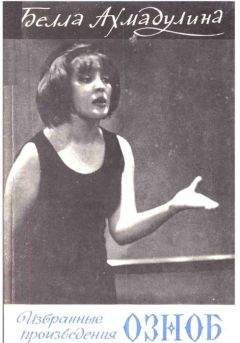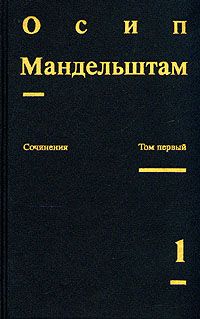Мы расстаемся — и одновременно
овладевает миром перемена,
и страсть к измене так в нем велика,
что берегами брезгает река,
охладевают к небу облака,
кивает правой левая рука
и ей надменно говорит: — Пока!
Апрель уже не предвещает мая,
да, мая не видать нам никогда,
и распадается иван-да-марья.
О, желтого и синего вражда!
Свои растенья вытравляет лето,
долготы отстранились от широт,
и белого не существует цвета -
остались семь его цветных сирот.
Все храмы подвергаются разрухе,
гуляет над кладбищами разбой
и тянет руки, — по вине разлуки
меня с тобой, о Господи, с тобой.
Охотники ловили барса
на берегу Нарын-реки.
Он не рычал — он улыбался,
когда показывал клыки.
Его охота потешала,
но первым признаком беды
был запах -
всюду по Тянь-Шаню
противно пахли их следы.
Но люди землю подкопали.
Они добились своего.
Он сильный был,
но про капканы
еще не знал он ничего.
Он понял.
Он поддался гордо,
когда вязал его казах,
и было сумрачно и горько
в его оранжевых глазах.
Он за людьми следил ощерясь.
Они будили в нем тоску.
В нем полыхали гнев и щедрость,
и хвост метался по песку.
Он поселился в зоопарке,
где много мяса и воды.
Они, заманчивые, пахли,
но долго он не брал еды.
Его лелеют там усердно.
Он покорился.
Он лежит.
И только видно, как у сердца
пятнистый мех его дрожит.
Светофоры. И я перед ними
становлюсь, отступаю назад.
Светофор. Это странное имя.
Светофор. Святослав. Светозар.
Светофоры добры, как славяне.
Мне в лицо устремляют огни
и огнями, как будто словами,
умоляют: «Постой, не гони».
Благодарна я им за смещенье
этих двух разноцветных огней,
но во мне происходит смешенье
этих двух разноцветных кровей.
О, извечно гудел и сливался,
о, извечно бесчинствовал спор:
этот добрый рассудок славянский.
и косой азиатский напор.
Видно, выход — в движенье, в движенье,
в голове, наклоненной к рулю,
в бесшабашном головокруженье
у обочины на краю.
И, откидываясь на сиденье,
говорю себе: «Погоди».
Отдаю себя на съеденье
этой скорости впереди.
Мальчишка, мчащийся в ночное,
не понукающий коня,
я расскажу тебе смешное,
мальчишка, пожалей меня.
Да, мало в жизни я видала.
Сидеть не приходилось мне
на кляче самой захудалой,
не говоря о скакуне.
Верхом — мое ли это дело!
Беда не так уж велика!
Но раз я, помнится, глядела
на удалого седока.
Он пролетел, протяжно крикнув,
припав к раздольному коню,
и долго вздрагивали кринки,
развешанные по плетню…
О парне том не забывая
и злую зависть не тая,
я не прощу себе трамвая,
в котором часто езжу я.
Его сидячего покоя,
его гремучей суеты…
Но знаю я, что где-то кони
жуют горючие цветы.
И есть один, гнедой и рослый.
Покуда я живу в Москве,
он бродит по колено в росной,
пробитой клевером траве.
Он мой. Он ждет меня к ответу
за всю трамвайную езду,
и слышно далеко по ветру
его трезвонную узду.
Поедем.
Он на землю сбросит
меня на берегу реки,
но как-нибудь он сам попросит
веления моей руки.
И вот лечу я, не седлая
того лихого жеребца,
и грива пенится седая
и плещет около лица.
Дома, заборы, куры в просе,
мальчишка с множеством значков…
Ах, конь!
И мне уже не бросить
его задумчивых зрачков,
его горячего оскала,
когда он жадно пьет в реке…
Лечу!
Того, что не пускало,
уже не видно вдалеке…
Какой безумец празднество затеял
и щедро Днем поэзии нарек?
По той дороге, где мой след затерян,
стекается на празднество народ.
О славный день, твои гуляки буйны.
Я на себя их смелость не беру.
Ты для меня — торжественные будни.
Не пировать мне на твоем пиру.
А в публике — доверье и смущенье.
Как добрая душа ее проста.
Великого и малого смешенье
не различает эта доброта.
Пока дурачит слух ее невежда,
пока никто не видит в этом зла,
мне остается смутная надежда,
что праздники случаются не зря.
Не зря слова поэтов осеняют,
не зря, когда звучат их голоса,
у мальчиков и девочек сияют
восторгом и неведеньем глаза.
Чужое ремесло мной помыкает.
На грех наводит, за собой маня.
Моя работа мне не помогает
и мстительно сторонится меня.
Я ей вовеки соблюдаю верность,
пишу стихи у краешка стола,
и все-таки меня снедает ревность,
когда творят иные мастера.
Поет высоким голосом кинто,
и у меня в тбилисском том духане,
в картинной галерее и в кино
завистливо заходится дыханье.
Когда возводит красную трубу
печник на необжитом новом доме,
я тоже вытираю о траву
замаранные глиною ладони.
О, сделать так, как сделал оператор,
послушно перенять его пример
и, пристально приникнув к аппаратам,
прищуриться на выбранный предмет.
О, эта жадность деревца сажать,
из лейки лить на грядках неполитых
и линии натурщиц отражать,
размазывая краски на палитрах!
Так власть чужой работы надо мной
меня жестоко требует к ответу.
Но не прошу я участи иной.
Благодарю скупую радость эту.
Смущаюсь и робею пред листом
бумаги чистой.
Так стоит паломник
у входа в храм.
Пред девичьим лицом
так опытный потупится поклонник.
Как будто школьник, новую тетрадь
я озираю алчно и любовно,
чтобы потом пером ее терзать,
марая ради замысла любого.
Чистописанья сладостный урок
недолог. Перевернута страница.
Бумаге белой нанеся урон,
бесчинствует мой почерк и срамится.
Так вглубь тетради, словно в глубь лесов
я безрассудно и навечно кану,
одна среди сияющих листов
неся свою ликующую кару.
Эта женщина минула,
в холст глубоко вошла.
А была она милая,
молодая была.
Прожила б она красивая,
вся задор и полнота,
если б проголодь крысиная
не сточила полотна.
Как металася по комнате,
как кручинилась по нем.
Ее пальцы письма комкали
и держали над огнем.
А когда входил уверенно,
громко спрашивал вина -
как заносчиво и ветрено
улыбалася она.
В зале с черными колоннами
маскарады затевал
и манжетами холодными
ее руки задевал.
Покорялись руки бедные,
обнимали сгоряча,
и взвивались пальцы белые
у цыгана скрипача.
Он опускался на колени,
смычком далеким обольщал
и тонкое лицо калеки
к высоким звездам обращал.
…А под утро в спальне темной
тихо свечку зажигал,
перстенек, мизинцем теплый,
он в ладони зажимал.
И смотрел, смотрел печально,
как, счастливая сполна,
безрассудно и прощально
эта женщина спала.
Надевала платье черное
и смотрела из дверей,
как к крыльцу подводят чопорных,
приозябших лошадей.
Поцелуем долгим, маетным
приникал к ее руке,
становился тихим, маленьким
колокольчик вдалеке.
О высокие клавиши
разбивалась рука.
Как над нею на кладбище
трава глубока.
1
В стране, не забывающей Линкольна,
в селе, где ни двора и ни кола,
как женщина, печальна колокольня.
По мне, по мне звонят колокола.
По юношам, безвременно погибшим
на этой победительной войне,
по женщинам, усталым и поникшим,
и все-таки они звонят по мне.
По старикам, давным-давно усопшим,
по морякам, оставшимся на дне,
по мумиям, загадочным, усохшим,