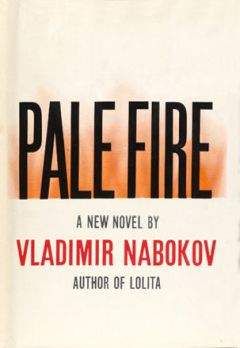Песнь вторая
Был час{33} в безумной юности моей,
Как заподозрил я, что каждый из людей
Владеет истиной о бытии загробном{34}:
170 Лишь я один в неведеньи. Огромный
Злодейский заговор{35} людей и книг{36}
Скрывает истину, чтоб к ней я не приник.
Был день сомнений в разуме людском:
Как можно жить, не зная впрок о том,
Какая смерть и мрак, и рок какой
Сознанье ждут за гробовой доской?
И наконец, была бессонна ночь,
Когда решился я познать и превозмочь
Запретной бездны смрад, сему занятью
180 Пустую жизнь отдавши без изъятья.
Мне шестьдесят один сегодня{37}. В кущах сада
Сбирает верес свиристель, поет цикада{38}.
В моей ладони ножницы, они
Из солнца и звезды сотворены:
Блестящий синтез. Стоя у окна,
Я подрезаю ногти, осознав
Неуловимую похожесть: перст большой —
Сын бакалейщика; унылый и худой,
Но указующий — Староувер Блю{39}, астроном;
190 В середке — длинный пастор, наш знакомый;
Четвертый, женственный, — зазноба дней былых,
И розовый малец у ног ее притих.
И я снимаю стружку, скорчив рожу,
С того, что Мод звала «ненужной кожей».
Когда на жизнь Мод Шейд молчанье налегло,
Ей было восемьдесят лет, ее чело,
Я помню, дернулось, побагровело,
Приняв удар паралича. В Долину Елей
Мы отвезли ее, там славный был приют.
200 Под застекленным солнцем там и тут
Порхали мухи. Мод косила глазом.
Туман густел. Она теряла разум.
Но все пыталась говорить: ей нужный звук,
Застыв, натужившись, она брала, как вдруг
Из ближних клеток сонмище притвор
Сменяло слово нужное, и взор
Ее мольбой туманился, в стараньях
Смирить распутных демонов сознанья.
Под коим градусом распада{40} застает
210 Нас воскресение? В который день и год?
Кто тронет маятник? Кто ленту пустит вспять?
Не всем везет — иль должно всех спасать?
Вот силлогизм{41}: «Другие смертны, да,
Но я-то не другой, — я буду жить всегда.»
Пространство — толчея в глазах, а время —
В ушах гудение. Мы наравне со всеми
В сем улье заперты. Но если б жизни до
Мы жизнь увидели, какою ерундой,
Нелепой небылью, невыразимым срамом
220 Чудесной заумью она явилась нам!
К чему ж глумленье глупое? Зачем
Насмешки над «потом», незнаемым никем:
Над струнным стоном лир, беседой неспешливой
С Сократом или Прустом под оливой,
Над шестикрылым серафимом, над усладой
Турецкою и над фламандским адом,
Где бродит дикобраз таинственный? Не в том
Беда, что фантастичен сон —
Безумья мало в нем. В ужасных муках снова
230 Мы порождаем душку-домового{42}.
Смешны потуги{43} — рок, что всем един,
Превесть на свой язык! Взамен терцин
Божественных поэзии — заметы
Бессвязные, бессонья вялый лепет!
«Жизнь есть донос, написанный впотьме.»
Без подписи.
Я видел на сосне,
Шагая к дому в день ее конца:
Подобье изумрудного ларца{44}
За ствол цеплялось, рядом стыл в живице
240 Всегдашний муравей.
Тот англичанин в Ницце{45},
Лингвист счастливый, гордый: «je nourris
Les pauvres cigales», — он, стало быть, кормил
Бедняжек-чаек!
Лафонтен, тужи,
Жующий помер, а поющий жив.
Так ногти я стригу и слышу, размышляя,
Твои шаги вверху, все хорошо, родная{46}.
Тобою любовался я, Сибил{47},
Все годы школьные, но полюбил
250 Лишь на экскурсии к Нью-Вайскому Порогу.
Был завтрак на траве, геолог школьный много
Нам сообщил о водопадах. С ревом, с пылом
Под пыльной радугой Романтика входила
В наш пресный парк. В апрельской синеве
Я за тобой раскинулся в траве
И видел спину узкую, наклон
Головки и раскрытую ладонь
В траве, меж звезд трилистника и камнем.
Чуть дрогнула фаланга. Ты дала мне
Оборотясь, глаза мои встречая,
260 Наперсток яркого и жестяного чая.
Все тот твой профиль. Персиковый ворс
В обвод скулы, персидской формы нос
И бровь, и темный шелк взметен
С виска и шеи, и под глазом тон,
Наложенный ресницами, темнеет,
Губ сдержанность, открытость шеи, —
Все сохранила ты. И водопадов хор,
Коль ночь тиха, мы слышим до сих пор.
Дай мне ласкать тебя, о идол мой,
270 Ванесса темная{48} с багровою каймой,
Мой Адмирабль, мое блаженство! Объясни,
Как сталось, что в сиреневой тени
Неловкий, истеричный Джонни Шейд
Впивался в твой висок, глаза и шею?
Мы вместе сорок лет{49}. Четыре тыщи раз
Твоя подушка принимала нас.
Четыре сотни тысяч прожитых
Часов отметил хрип курантов домовых.
И много ли еще календарей
280 Украсят створки кухонных дверей?
Люблю тебя, стоящей на лужке,
Глядящей в крону дерева: «Исчез.
Какой он крохотный. Вернется ль?» (в ожиданьи
Нежнейшим шопотом, нежнейшим, чем лобзанье).
Люблю, когда взглянуть зовешь меня ты
На реактивный шрам над пламенем заката{50}.
Люблю, как напевая, за подпругу
Мешок дорожный{51} с молнией по кругу
Подтянешь, уложив. И в горле ком,
290 Когда встречаешь тень ее кивком,
Глядишь в ладонь на первый погремок
Иль в книжице забытое письмо.
Она{52} могла быть мной, тобой, могла смешеньем быть.
Я выбран был, чтоб с хрустом раздавить
Сердца тебе и мне. Вначале мы шутили:
«Девчушки все толстушки, верно?» или
«Мак-Вэй (наш окулист) в один прием
Поправит эту косину». Потом:
«А ведь растет премиленькой», и острой
300 Тоски не одолев: «Неловкий возраст».
«Ей надо б походить на ипподром»
(В глаза не глядя). «Теннис, бадминтон…
Крахмала меньше, фрукты! Что ж, она
Возможно, не смазлива, но умна».
Все было бестолку. Конечно, высший балл
(История, французский) утешал.
Да, детских игр немилостив закон:
Застенчивый в них редко пощажен.
Но будем честными: когда другие дети
310 Являлись эльфами и феями в балете
На сцене, ей расписанной, она
В уборщицы была низведена —
Старуха-Время с шваброй и помойной
Бадьей. Я, как дурак, рыдал в уборной.
Вновь зиму отскребли. Зубянкой и белянкой{53}
Май населил тенистые полянки.
Сгорело лето. Осень вышла дымом.
А гадкой лебеди не выпало, увы нам,
Древесной уткой{54} стать. И ты твердила снова:
320 «Она невинна, — что же тут дурного?
Мне эти хлопоты о плоти непонятны.
Ей нравится казаться неопрятной.
И целомудрие бывало иногда
Творцом блестящих книг. А красота,
Любовь — не главное». Но старый Пан кивал
Нам с каждого холма. Бес жалости жужжал:
Не будет губ, чтоб с сигареты тон
Ее помады снять, и телефон,
Что, бал предчувствуя, в Сороза-холл поет
330 Песнь непрестанную, ее не позовет,
Покрышками по гравию шурша,
К калитке франт, увитый в белый шарф,
За ней не явится{55} из лаковой ночи,
На танцы он бедняжку не умчит
Видением жасмина и тумана.
Зато в каникулы она живала в Канне.
И возвращалась — в горестях, в слезах
И с новым поводом для слез. В те дни, когда
Весь городок плясал, она влеклась к ступеням
340 Библиотеки колледжа с вязаньем, с чтеньем,
Почти всегда одна, — порой подруга с нею,
Теперь монашенка, иль мальчик из Кореи,
Мой слушатель. В ней связь была странна
Причуд, боязней, воли. Раз, она
Три ночи провела в пустом сарае{56},
Его мерцания и стуки изучая.
Она слова вертела{57} — «тень» и «нет» —
И в «телекс» переделала «скелет».
Ей улыбаться выпадало редко —
350 И то в знак боли. Наши планы едко
Она громила. Сидя в простынях,
Измятых за ночь, с пустотой в очах,
Ножища растопыря, под власами
Копая псориазными ногтями,
Со стоном, тоном, слышимым едва,
Она твердила гнусные слова.
Мое сокровище — так тягостна, хмура,
А все — сокровище. Мы помним вечера
Едва ль не мирные: маджонг или твоих
360 Мехов примерка — и почти красива в них.
Ей улыбалось зеркало в ответ,
Любезной тень была и милосердным свет.
Я делал с ней латынь иль в спальне, что стеной,
Разлучена с моей светящейся норой,
Она читала. Ты — в своей гостиной,
В двойной дали, в троюродной. Ваш чинный
Мне слышен разговор: «Мам, что за штука
Весталии?» «Как-как?»
«Вес талии». Ни звука.
Потом твой сдержанный ответ и снова:
370 «Мам, а предвечный?» — ну, к нему-то ты готова.
Ты добавляешь: «Мандаринку съешь?»
«Нет. Да. А преисподняя?» И в брешь
Твоей пугливости врываюсь я, как зверь
Ответ вульгарный рявкая сквозь дверь.
Не важно, что она читала, — некий всхлип{58}
Поэзии новейшей, — этот тип,
Их лектор, называл его{59} «трудом
Чаруйно-трепетным», — о чем толкует он,
Никто не спрашивал. По комнатам своим
380 Тогда разъятые, теперь мы состоим
Как будто в триптихе или в трехактной драме,
Где явленное раз, живет уже веками.
Но мнится, что томил ее мечтаний дым.
В те дни я кончил книгу{60}. Дженни Дин,
Моя типистка, предложила ей
Свести знакомство с Питом (братом Джейн){61}:
Ее жених ссудил автомобиль,
Чтоб всех свезти в гавайский бар, за двадцать миль.
Он к ним подсел в Нью-Вае, в половине
390 Девятого. Дорога слепла в стыни.
Уж бар они нашли, внезапно Питер Дин,
Себя ударив в лоб, вскричал, что он, кретин,
Забыл о встрече с другом: друг в тюрьму
Посажен будет, если он ему…
Et cetera. Участия полна,
Она кивала, сгинул он, она
Еще с друзьями у фанерных кружев
Помедлила (неон рябил по лужам)
И молвила с улыбкой: «Третий лишний.
400 Поеду я домой». Друзья прошли с ней
К автобусу. Но в довершенье бед
Она пустилась не домой, а в Лоханхед.
Ты справилась с запястьем: «Восемь тридцать.
Включу{62}». (Тут время начало двоиться.)
На донце колбы жизнь пугливо занялась,
Плеснула музыка.
Он на нее взглянул лишь раз,
Второй же взгляд чуть не покончил с Джейн.
Злодейская рука{63} гнет из Флориды в Мэн
Кривые стрелы эолийских войн. Вот-вот,
410 Сказала ты, квартет зануд начнет
(Два автора, два критика) решать
Судьбу поэзии в канале № 5.
Там нимфа в пируэте{64}, свой весенний
Обряд свершив, она клонит колени
Пред деревянным алтарем, где в ряд
Предметы культа туалетного торчат.
Я к гранкам поднялся наверх{65} и слышал,
Как ветер вертит камушки на крыше.
«Зри, пляшет вор слепой, поет хромая голь», —
420 Здесь пошлый тон его эпохи злой
Так явственен. И вот твой зов веселый,
Мой пересмешник, долетел из холла.
Поспел я вовремя, чтоб удоволить жажду
Непрочных почестей и выпить чаю: дважды
Я назван был — за Фростом, как всегда
(Один, но скользкий шаг){66}.
«Но вы не против, да?
Ведь если денег не получит он
К полуночи… Я б рейсом на Экстон…»
Засим — туристский фильм, — нас диктор вел туда,
430 Где в мартовской ночи, в тумане, как звезда
Двойная, зрели фары, близясь{67}
К морской — к зеленой, синей, смуглой ризе, —
Мы здесь гостили в тридцать третьем, ровно
За девять лун до рождества ее. Те волны{68},
Теперь седые сплошь, уже не вспомнят нас, —
Как долго мы бродили в первый раз,
Тот свет безжалостный, ту стайку парусов —
Два красных, белые и синий, как суров
Его был с морем спор, — того мужчину
440 В обвислом блайзере, что сыпал нестерпимо
Горластым чайкам крошки, сизаря,
Меж них бродившего вразвалку. Ты в дверях
Застыла. «Телефон?» О нет, ни звука.
И снова ты к программке тянешь руку.
Еще огни в тумане. Смысла нет
Тереть стекло: лишь отражают свет
Заборы да столбы, столбы на всем пути.
«А может, ей не стоило идти?»
«Да что за невидаль — заглазное свиданье!
450 Ну что, попробуем премьеру „Покаянья“?»
И безмятежные, смотрели мы с тобой
Известный фильм. Прекрасный и пустой
И всем знакомый лик, качаясь, плыл на нас.
Приотворенность уст и влажность глаз,
Перл красоты на щечке — галлицизм
Не очень ясный мне, — все расплывалось в призме
Общинной похоти.
«Я здесь сойду.» «Постойте,
Ведь это ж Лоханхед.» «Мне все равно, откройте».
В стекле качнулись призраки древес.
460 Автобус встал. Захлопнулся. Исчез.
Гроза над джунглями. «Нет, Господи, не надо!»
У нас в гостях Пат Пинк (треп против термояда).
Одиннадцать. «Ну, дальше чепуха», —
Сказала ты. И началась, лиха,
Игра в студийную рулетку. Меркли лица.
Сносило головы рекламным небылицам.
Косило пеньем скрюченные рты.
Какой-то хлюст прицелился{69}, но ты
Была ловчей. Веселый негр{70} трубу
470 Воздел. Щелчок. Ты правила судьбу
И даровала жизнь. «Да выключи!» «Сейчас.»
Мы видели: порвалась жизни связь,
Крупица света съежилась во мраке
И умерла.
С встревоженной собакой,
Согбенный и седой, из хижины прибрежной
Папаша-Время{71}, старый сторож здешний,
Пошел вдоль камышей. Он был уже не нужен.
В молчаньи мы закончили свой ужин.
Дул ветер, дул. Дрожали стекла мелко.
480 «Не телефон?» «Да нет.» Я мыл тарелки,
И век проведшие на кухонном полу
Часы крошили старую скалу.
Двенадцать бьет. Что юным поздний час?
В пяти стволах кедровых заблудясь,
Веселый свет плеснул на пятна снега,
И на ухабах наших встал с разбега
Патрульный «форд». Еще хотя бы дубль!
Одни считали — срезать путь по льду
Она пыталась, где от Экса{72} к Ваю
490 Коньки ретивые по стуже пробегают.
Другие думали, — бедняжка заплуталась,
И верил кое-кто, — сама она сквиталась
С ненужной юностью{73}. Я правду знал. И ты.
Шла оттепель, и падал с высоты
Свирепый ветр. Трещал в тумане лед.
Озябшая весна стояла у ворот
Под влажным светом звезд, в разбухшей глине.
К трескучей жадно стонущей трясине
Из тростников, волнуемых темно,
500 °Слепая тень сошла и канула на дно.