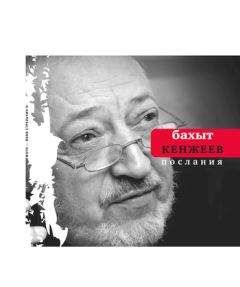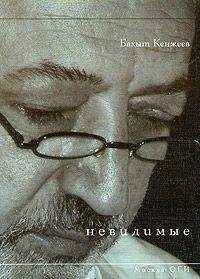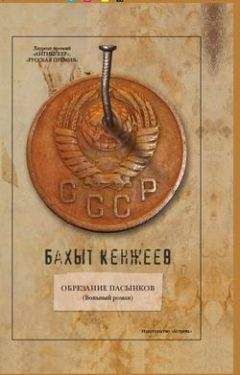«…тем летом, потеряв работу, я…»
…тем летом, потеряв работу, я
почти не огорчился, полагая
заняться творчеством: за письменным столом,
что твой Толстой в усадьбе, скоротать
хоть год, хоть два, понаслаждаться тихим
жильём, покуривая на балконе
и созерцая свой домашний город —
двух-, трехэтажный, с задними дворами,
засаженными мятой и жасмином.
Какое там! На третий день внезапно
какие-то поганцы по соседству
затеяли строительство – орут,
долбят скалистый грунт, с семи утра
до сумерек.
Грязь, пыль. Глухой стеною
в желтушном силикатном кирпиче
закрыли вид из окон. Повредили
столетний клён, который поутру
развесистыми ветками меня
приветствовал.
Беда, друзья, беда.
И улетел в Москву я с облегченьем:
меня пустили в бывшую мою
квартиру, окружённую старинным
подковообразным зданием; лет шесть
тому назад его крутые парни
в разборках подожгли, да так и не
восстановили. Вот где тишина,
мечталось мне.
Но к моему приезду
соперники поладили, а может,
их всех перестреляли, – словом, дом
обрёл хозяина. На третий день
во двор заполз огромный экскаватор,
который, грохоча, с семи утра
ковшом вгрызался в каменную кладку,
обрушивал ржавеющие трубы
и балки полусгнившие крушил
до сумерек.
Кому-то это праздник —
а мне так жаль чужих ушедших лет,
жаль тех, кто в этом бывшем доме
варил борщи, листал свой «Крокодил»
да ссорился с соседями…
Жена
звала к себе, в другой столичный город,
в квартиру, что рокочет даже ночью
от уличного шума. Что ж, привыкну,
подумал я. Не тут-то было – стройка
добралась и туда. Все здания окрест
в лесах, с семи утра бетон мешают
и буйствует отбойный молоток.
Не много ли случайных совпадений?
Зачем протяжный грохот разрушенья
и созиданья, словно медный всадник,
за мной несётся по свету? Ужели,
чтоб снова я в незыблемости жизни
(в которой мы уверены с пелёнок) —
раскаялся?
Грохочет новый мир,
а старый, как и я, идёт на слом,
как тысячи миров, что на сегодня
остались лишь в руинах да на ломких
страницах книг о прошлогоднем снеге.
«не мудрствуй ни жить ни верстать не обучен…»
не мудрствуй ни жить ни верстать не обучен
не злись я освою навряд
разлуку играть среди зорких излучин
где влажные звёзды звенят
будь проще будь ласковый морок для ближних
бесценная тень и вообще
любой собутыльник небрежный булыжник
забывшийся в смертной праще
бензином весна и дорожкою скатерть
чин-чином прохладной виной
любой именинник пустой соискатель
любовница вербы ночной
лиловые тучки беззвездные ночки
хворал до сих пор не окреп
печальная женщина в белой сорочке
пекущая греческий хлеб
«месяц цинковый смотрит в окно…»
месяц цинковый смотрит в окно
одноглазый сквозь зимнюю тьму
столько всякого сочинено
а зачем до сих пор не пойму
добросовестной смерти залог
феникс нет городской воробей
истлевающий друг-каталог
детских радостей взрослых скорбей
помотаю дурной головой
закрывая ночную тетрадь
жизнь долга да и мне не впервой
путеводные звёзды терять
месяц медленный в тёмном окне
всё нехитро чудесно старо
и молчит астронавт на луне
словно нищий в московском метро
«Уеду в Рим и в Риме буду жить…»
Уеду в Рим и в Риме буду жить,
какую-нибудь арку сторожить
(там много арок – всё-таки не Дрезден),
а в городе моём прозрачный хруст
снежка, дом прежний выстужен и пуст,
и говорит: «Хозяева в отъезде»
автоответчик, красным огоньком
подмигивая. Рим, всеобщий дом!
Там дева-мгла склоняется над книгой
исхода, молдаван, отец семье,
болтает с эфиопом на скамье,
поленту называя мамалыгой.
Живущий там – на кладбище живёт.
Ест твёрдый сыр, речную воду пьёт,
как старый тис, шумит в священной роще.
Уеду в Рим, и в Риме буду петь.
Там оскуденье времени терпеть
не легче, но естественней и проще.
Там воздух – мрамор, лунные лучи
густеют в католической ночи,
как бы с небес любовная записка…
А римлянин, не слушая меня,
фырчит: «Какая, господи, херня!
Уж если жить, то разве в Сан-Франциско».
«Побыв и прахом, и водой, и глиняным…»
Побыв и прахом, и водой, и глиняным
болваном в полный рост, очнуться вдруг
млекопитающим, снабжённым именем
и отчеством. Венера, светлый дух,
ещё сияет, а на расстоянии,
где все слова – «свобода», «сердце», «я» —
бессмысленны, готовы к расставанию
её немногословные друзья.
Ты говорил задолго до Вергилия,
на утреннем ветру простыл, продрог,
струна твоя – оленье сухожилие,
труба твоя – заговорённый рог.
Побыв младенцем и венцом творения —
отчаяться, невольно различать
лиловую печать неодобрения
на всём живом и тления печать.
Жизнь шелестит потёртой ассигнацией —
не спишь, не голодаешь ли, Адам?
Есть многое на свете, друг Горацио,
что и не снилось нашим господам.
«У каждого, братия, свой талант…»
У каждого, братия, свой талант,
и счастья – как из ведра.
Проворовавшийся интендант
тоже хотел добра,
когда полковнику гнал пургу,
не ведая, что творит,
когда по ночам продавал врагу
порох, хлор и иприт.
Известно, что бывает в таком
случае: полный абзац.
Звенят железом, скрипят замком,
ведут на пустынный плац.
Молчит священник. Поздно рыдать!
Бледна звезда в синеве.
Беда. И пенсии не видать
бездомной его вдове.
«Зачем я пью один сегодня? Как тридцать восемь лет назад…»
Зачем я пью один сегодня? Как тридцать восемь лет назад,
вонзаясь в воздух новогодний, снежинки резкие скользят,
всё лучшее даётся даром, и пусть блуждает вдалеке
юнец гриппозный по бульварам с бутылкой крепкого в руке.
Пылай, закат – в твоём накале, неопалимая, долга
жизнь. По зеркальной вертикали плывут хрустальные снега.
Сто запятых, пятнадцать точек, бумаги рваные края —
и кажется – чем мельче почерк, тем речь отчётливей моя.
Зачем орфей в ночном аиде щадил обложенный язык,
когда в тревоге и обиде к ручью подземному приник?
Спит время: на огне окольном охрипших связок не согреть —
лишь агнцам, ангелам спокойным январским пламенем гореть.
4 января 2007
«Не спеши: приглядись к бесполезным облакам. Кто же их рисовал…»
Не спеши: приглядись к бесполезным облакам.
Кто же их рисовал
и пускал по отлаженным безднам? То ли ласточка, то ли нарвал
проплывает, то – щука горбатая. Если мир наш
и впрямь нехорош,
он чреват непомерной расплатою: не спасёшься,
а просто умрёшь.
Уверяют, что если вглядеться, как в питона —
праматерь в раю,
различишь наверху своё детство, свою старость
и юность свою.
Сколько чаши такой ни подслащивай – всё горька,
словно горный бальзам.
Не узнать со спины уходящего – как по камешкам,
по облакам.
Тот, кто жизнь разрывает и вяжет, кто за нас воссиял и воскрес,
обернётся и ласково скажет: вот животные средних небес.
Вам – Икар воскокрылый, и карий глаз, лишь пар,
только горестный хмель.
Не понять этих временных тварей вам,
растениям нижних земель.
В небесах одиноко и сиро, а земля, парадиз для иных,
лишь развалины верхнего мира, отражённые в водах ночных.
Не тебе одному он советовал, посылал фиолетовый свет…
Ты ведь знаешь – для господа этого
ни пространства, ни времени нет.
«Вольно зиме-заочнице впотьмах…»
Вольно зиме-заочнице впотьмах
проситься на руки, отлынивать, лениться,
обменивать черёмуховый взмах
на пленный дух полыни и аниса,
и если так положено во сне —
пускай скулит звезда сторожевая,
пока учусь безмолвствовать, жене
превратности любви преподавая.
Но легче мне: я знаю слово «мы».
Немного нас, лепечущих и пьющих,
с копьём неповоротливым из тьмы
на всадников безглазых восстающих, —
и не трудней освоить нашу речь,
её напор, зернистый и соборный,
чем земляное яблоко испечь
в летучем пепле жизни беспризорной.
«Скучай, скучай, водица ледяная по реченьке, текущей без забот…»
Скучай, скучай, водица ледяная, по реченьке,
текущей без забот.
Грек, мой сосед, гармонии не зная,
по вечерам анисовую пьёт.
Владелец странной лавки по дороге в аптеку,
для кого содержит он
свой пантеон? Кому сегодня боги
(читай: Арахна, Марсий, Актеон)
нужны? Как хлипки эти малолетки, как трогательна
эта нагота!
Не мрамор, нет, старательные слепки,
в телесный цвет раскрашены… И та
охотница, которая бежала сквозь лес ореховый,
оленям бедным вслед,
и тот, хромой друг жаркого металла,
и те, кого в природе больше нет, —
малы, что запонки, и, как младенцы, зябки, —
в краях, где крот базальта не грызёт,
лишь гипсовый Гадес в собачьей шапке,
смеясь, вдыхает царственный азот.
«И забывчив я стал, и не слишком толков…»