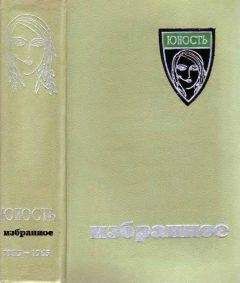Не знаю, как у других, но у меня с каждой полюбившейся песней связан какой-нибудь кусочек жизни. Алексей пел уже другую песню:
…Наши бедные желудки
Были вечно голодны,
И считали мы минутки, нутки, нутки
До обеденной поры…
Я поглядел на ребят. Они очень внимательно слушали. Но не подпевали. Они не знали эту песню. А мне вспомнился пионерский лагерь под Загорском. Костер. Печеная картошка. Старший пионервожатый весельчак Гриша. Он называл нас красными дьяволятами. А когда злился на нас, добавлял: «Чтоб я так жил, дьяволята!»
Нам нравилось быть красными дьяволятами. И мы любили Гришу. Как давно это было!
— Ты чего задумался? — спросил Алексей, когда песня кончилась. — Подтягивай. И он запел новую:
…В далекий край товарищ улетает,
Родные ветры вслед за ним летят…
Эту песню знали все. Запели хором. Правда, она не хоровая. Я напевал ее когда-то любимой девушке. Ее звали Наташа. Мы сидели в Александровском саду. Я сказал Наташе:
— Буду летчиком. Как Чкалов. Вот увидишь.
Она:
— Хорошо. Но убери руки.
— При чем тут руки? Недотрога. Когда я стану летчиком, ты тоже будешь ломаться?
— Когда станешь, тогда будет видно, — отвечала Наташа.
Где она теперь? Может быть, сама стала летчиком? Это вполне возможно. У нее был такой железный характер!
И видеть сны
И зеленеть среди весны… —
пели ребята.
— Дядя Леша, сыграйте фронтовые, — попросил подошедший Слава.
Алексей на секунду задумался, потом сказал:
— Колькина любимая:
…Вьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза…
Ребята сели теснее. Они знали эту песню. Но сами не пели. Они слушали, как поем ее мы — Алексей и я.
«Землянку» очень любил Колька. Он пел ее на привалах, в окопах в часы затишья.
…Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти — четыре шага.
Друг Колька! Ты не только хорошо пел. Ты еще лучше воевал. Ты погиб, как герой, под Джанкоем. И эти мальчики, что слушают Алексея и меня, знают об этом. Поэтому они так тихо сидят. Поэтому они так прижались друг к другу. Я часто вспоминаю тебя, Колька. Мне иногда хочется зайти к твоей матери. Сказать ей что-нибудь такое… Но я боюсь. Мне почему-то стыдно смотреть ей в глаза. Хотя моя солдатская совесть чиста. Но я жив. А ты…
Песня кончилась. Помолчали. Алексей вздохнул и запел:
Ребята подтянули:
Я люблю тебя, жизнь,
Я люблю тебя снова и снова.
Потом мы спели «Геологов», «Московские окна», «Песню космонавтов». Алексей сказал:
— Ну, давайте, друзья, последнюю. Поздно. Завтра двоек нахватаете.
И он запел:
Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины…
Мы поддержали:
Над ширью пашен и полей,
И у берез и тополей…
Вдруг я услышал голос жены. Она стояла у меня за спиной и тоже пела:
Спросите вы у матерей…
……………………………
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны!
Алексей взял последний аккорд. И заглушил струны ладонью. Ребята пошушукались. И вдруг зааплодировали. Потом Алексей сказал:
— Да-а! Как все же метко сказано: русская песня — русская история. Это Горький.
Я заметил, как Слава быстро записал что-то в маленький блокнот. Наверное, горьковские слова. Хороший парень Слава. Да и мальчишки помладше у нас мировые. Вы бы посмотрели, как они слушали Алексея! И как пели сами! Так слушать могут только настоящие ребята. И петь — тоже. Поколение победителей. Школьники, космонавты, геологи, монтажники, поэты.
Вторую неделю мы ждали самолета в затерянном среди непроходимых якутских лесов маленьком таежном поселке. Нас было семеро: три геолога, три геофизика и один журналист.
Каждое утро, еще до восхода солнца, мы переправлялись через речку на большую галечную косу, служившую аэродромом, и, усевшись на перевернутые лодки, с тоской смотрели на горизонт.
С наступлением темноты мы, невесело шаркая сапогами по гальке, возвращались к переправе.
Устроившись на ночь, мы заводили длинные разговоры о Москве, о друзьях и близких, о знакомых девушках и женах — словом, обо всем том, чего не было здесь, в далекой заполярной тайге, о чем мы скучали, с чем нетерпеливо ожидали встречи.
В один из таких вечеров, лежа на засаленных спальных мешках и потягивая из старых консервных банок густейший старательский чай, мы неожиданно заговорили о самопожертвовании.
Уж не помню, с чего все началось. Кто-то незаметно начал, кто-то поддержал, и через минуту разговор завладел всеми, за исключением хозяина дома и одного нашего спутника — угрюмого пожилого геолога с изрезанным резкими морщинами лицом старого таежника.
Мнения сразу разделились. Одни говорили, что пожертвовать собой человек может только в том случае, когда он ясно видит перед собой цель, во имя которой отдает свою жизнь. Другие утверждали, что самопожертвование — это результат эмоционального потрясения, экстаза, что пожертвовать собой можно не по расчету, а только, так сказать, по вдохновению. Особо рьяно выступал за вторую точку зрения лохматый черный геофизик — молодой парень лет двадцати пяти.
Угрюмый геолог (его фамилия Тарьянов) сначала даже не слушал наш спор. Но потом, когда лохматый геофизик «в пылу полемики» выскочил на середину комнаты и, размахивая руками, стал о чем-то кричать, Тарьянов сел на своей койке и, подняв руку, как школьник на уроке, тихо сказал:
— Одну минуту…
Мы все с интересом повернулись к нему.
— Я не буду спорить ни с кем из вас. Я просто хочу рассказать вам одну историю, которая, как мне кажется, имеет некоторое отношение к предмету вашего сегодняшнего разговора.
Тарьянов взял свою потрепанную полевую сумку и вытащил из нее сильно помятую тетрадь.
— Два года назад, во время больших осенних дождей, в тайге пропал без вести поисковый отряд геологов. Их очень долго искали, но не нашли. Весной, когда сошел снег, эвенки-оленеводы случайно наткнулись на последнюю стоянку этого отряда. А в десяти шагах от стоянки лежал человек. Это был начальник отряда геолог Костя Сабинин.
Эвенки нашли на груди у Сабинина пакет, в который были вложены карта открытого им месторождения и несколько исписанных листов бумаги — письмо Сабинина к жене.
Письмо отослали в Москву по адресу, а карту дали на проверку геологам, которые подтвердили наличие алмазов в открытой отрядом Сабинина кимберлитовой трубке. Перед отправкой кто-то перепечатал письмо на машинке. Эта копия долго ходила по якутским разведочным партиям. Некоторые места из нее геологи читали запоем, как молитву. Потом она попала ко мне.
Костя писал письмо жене несколько месяцев. Это было непрерывное, бесконечное, так и не оконченное, не отправленное письмо. Вот что было в нем написано:
«…У вас еще вечер, а у нас уже утро, вы еще слушаете по радио легкую музыку, а у нас уже поют петухи, и мы встаем рано-рано, чтобы успеть на аэродром к отлетающему самолету. Когда ты ляжешь в кровать и начнешь засыпать, мы уже поднимемся в воздух. Ты будешь видеть хорошие сны, а мы, прижавшись друг к другу, будем смотреть в маленькие круглые окна на редкие клочковатые облака, молчаливой серой стаей проносящиеся под крыльями нашего самолета. В твоей теплой, уютной комнате мягким розовым светом горит ночная настольная лампа, а из стеклянной кабины нашего самолета уже видны первые багровые сполохи северного сияния…
Вера, дорогая! Как мы далеки сейчас друг от друга! Я знаю, что ты волнуешься за меня, за мою беспокойную, бродячую жизнь. Мы мало бываем вместе, и ты больше помнишь меня на подножке вагона или в дверях самолета, всегда уходящего, улетающего от тебя.
Мне очень хочется сделать для тебя что-нибудь хорошее именно сейчас, когда ты спишь в далекой Москве, а я лечу с молчаливыми геологами на север. Мне хочется, чтобы тебе приснился яркий, солнечный день в веселом южном городе. Это было пять лет назад. В тот день мы решили, что навсегда будем вместе.
И тогда же я сказал тебе, что хочу сделать в жизни что-нибудь очень большое, очень полезное и нужное для моей Родины. А ты ответила, что разлука всю жизнь будет спутницей нашей любви. Помнишь, мы долго молчали тогда после этих слов. Мы знали, что это правда, но наша любовь была сильнее этой правды.