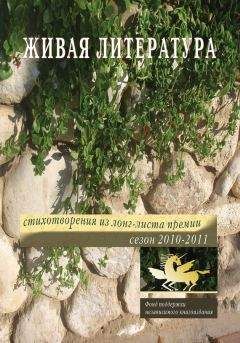Того, что она и сама кончается постепенно.
У меня такая высокая сворачиваемость крови,
Что я зае*ался себе резать вены.
* * *
столько всего
внутри
ветра
в моей голове
Вновь обую валенки и стремя —
Или ветер какой-то сумасшедший —
Потянуло гарью над селеньем
Из дупел перекошенных скворешен.
Остановлю за холмами поезд,
Спросит дядька: «Куда тебе, бродяже?»
Отвечу: «Отвези меня, мил-человек, куда захочешь.
И не дивись худой моей поклаже».
Заплачет дядька, дернет за веревку,
И вот уж едем мы в поезде быстрее ветра.
Достану мятую, с подкладки, сторублевку
И угощу всех водкой из буфета.
Тяжело уезжать из родимого краю,
Да и останешься – сердцу не легче.
Не горюй жена, не плачьте, мамаша дорогая,
Жизня – свечой догорает, а молодцу плыть недалече.
А с ветки звездочка-пышечка машет, «Ворочайтесь, – грит, – поскорее, папаша».
* * *
А после смерти мы поселимся в Крыму,
В тени необитаемого лета.
Спасибо, жизнь! Я все тебе верну,
Но больше не вернусь в твою тюрьму,
Где я был счастлив, если счастье – это.
Всяк ярок и безумен.
И сам себе творец.
Отвязливый игумен,
отчетливый скворец,
они едино бьются
под паводком травы.
Выравнивая блюдце
вселенской синевы.
И в вышнем отраженье
себе ж глядишь в глаза:
там жгучее движенье
затеяла лоза,
цветет и вьется клетка,
ребром несется ночь,
полет оттяжной плетки,
паленый ржавый ключ,
соседки томной взоры —
вся сныть под снег легла! —
но внятны лишь узоры витражного стекла.
… скворчишка чернорясный
стучит слезами в Твердь:
петь больно и прекрасно.
И бесполезна смерть.
Кому терзала уши тишина,
Кому постель казалась смертным ложем,
Но Панночка в пространстве решена
Как та стрела, что не упасть не может.
В пространстве хат и плодородных дев,
Где колокола гуд утюжит крыши,
И где, цветки над крышами воздев,
Малиновые мальвы душно дышат.
В пространстве обручального кольца,
Имеющего контур прочной точки,
Где судорогой сведены сердца,
Как лиственные гибнущие почки.
В пространстве,
Где, хватая пустоту,
Звериной наготой блистая, мчится
И чувствует добычу за версту
Ночная неустанная волчица.
И в Запорожской, Господи, Сечи,
Как Цезарь – окруженная рабами —
– И ты, Хома! ты, Брут! – она кричит,
И трепеща,
И скрежеща зубами.
– Ты сам себя зажал в заклятом круге, А мне хватило б трещины в стекле.
Она летит, вытягивая руки, И жизнь ее, как стрелка, на нуле.
Чугункой, в карете, на дрожках,
путем и совсем без пути
опасливый скоморошенька
желает к роялю пройти.
Смешно угнездится меж клавиш,
взлетев, что петух на насест.
– Mon cher,
ты о страшном играешь,
ты нам непонятен, Модест!
И тот, отвлекая от ноты,
как Богом забытый монах,
расскажет забавное что-то
о тайных, иных именах.
Он даме перчатку поднимет.
И бровь шевельнется: – О, oui!
вы, Модинька, тайное имя
скажите в молитвы мои.
Но он перекрестит колени, слегка улыбнется, смолчит…
Он – гений, сударыня, гений. Как все в петербургской ночи.
* * *
Уж чем бы небо ни дышало,
Да никогда не обижало.
Младым пажом сопровождало
в классические тупики.
Гляди, какие, брат, погоды —
в пампасы, в африку, на воды!
На длиннотравую природу,
В золотогривые деньки.
А небо, паж небесной крови,
растет, встает с Зимою вровень.
И сердце выбелив, и брови
метелит шпажкою сосны:
замерзни, дурочка, откуда
ты вечно ожидала чуда? —
от суеты слепого люда.
А надо бы – от тишины.
И ничего-то не зачтется.
И рукопись не перечтется.
Под гулким снегом лето бьется —
стебли стеклянные стерни.
Летит снегирь посмертно в Лето
атласной алой лентой Фета.
Стерней, полоской маков-цвета.
Цветок исколотой ступни.
* * *
Перестань, моя радость, я больше не буду смеяться
Над тобой, над собой, над крапивой, пробившей сукно.
Пусть скользят облака, пусть себе понемногу слоятся.
Если это им нужно, я, пожалуй, открою окно.
Я открою и дверь – если хочешь, ты можешь вернуться.
Солнцу крыша мешает, можно бы разобрать и ее.
Как-то все перепуталось, и хорошо бы проснуться.
Ты твердишь и твердишь бесполезное имя мое.
Я не верю себе, потому что туман нарастает.
Снег минувшей зимы – тополя затянуло слюдой.
Нынче лето, июль – почему ты не таешь?
Хорошо бы проснуться туманом над легкой водой.
Вот так открывается Космос:
внезапно летишь в пустоту,
и волосы в серые космы
сбиваются на лету.
А тихо-то, Господи, тихо…
до первой звезды – тыщу лет.
И жизни смешная шутиха
бабахнула, пыхнула. Нет.* * *
Жизнь пришла, но ее не узнали.
Продолжали возиться в печали,
поливая картонный цветок.
А за спинами сойка орала:
«Он расцвел на Ивана Купалу! —
буйный папоротника кусток
(не дрожи над картонною хренью)».
Лето сад зажигало сиренью,
и кружили такие жуки! —
бликокрылые – медью и златом
над ромашками, грядкой с салатом.
Дни пространны и ночи легки.
… Смерть пришла,
пустотою лизнула.
Черной пенкой сироп затянула.
Смолкла сойка, свернув кровоток.
Смерть пришла, но ее не узнали.
Им казалось – живут, и в печали
поливают картонный цветок.* * *
Я в школе взлезла по канату
под потолок спортзала и
услышала не «браво, Ната»,
а – быстро вниз и – не смотри.
Вот что за правило? – железно! —
взглянула лишь на потолок
и слышу: тише, выше – бездна.
От тех, кто и тогда не смог.
* * *
Так или иначе,
рано или поздно
будет вам удачно,
до смешного просто.
Сладкий жар – по силам,
жгучий лед – красивым
будет. Ибо небо
я о том просила.
А в печалях с муками
правды ни на грошик.
В пустоту аукаю? —
быть того не может!* * *
Я сама себя спасала,
я сама себя топила.
И когда мужей бросала,
и когда детей родила,
И когда, очнувшись ночью,
не ждала уже рассвета:
жизнь казалась мне короче
бесконечной ночи этой.
Жизнь! – которая сбивалась
то от шепота на ропот,
то от главного – на малость,
от отчаянья на опыт.
И, сама себя слагая,
чтобы только отдышаться,
я хочу сейчас нагая
к телу твоему прижаться.
Чтобы только выла глуше
ночь под левою лопаткой…
Долгие дожди украдкой
по мою стучатся душу.
* * *
Я купалась с лягушками,
словно Эллада весной.
Нет, постой, погоди,
я еще напишу про закат,
и еще про ковчег.
Да не тот, что достраивал Ной, —
про чудесный шалаш
с ветко-гранями в сотню карат.
Ветер сел в лопухах,
и стрекозы ударили блюз.
А заденет по коже —
и сохнет сверкающий страз.
Распускается сныть —
крепкой жизни решающий блиц.
Я люблю тишину,
но, пожалуйста,
все-таки,
ну – еще раз!* * *
To лето стоит в половине,
Сияет на трубах печных.
Лунатики бродят в малине
В белесых рубашках ночных.
Им утром не будет понятно,
Когда целый день впереди, —
малиново-алые пятна
Сквозят на спине, на груди.
откуда такая награда —
Запутаться, переплести
Седой одуванчик из сада
И снег, позабытый в горсти.
И яблочный ветер – оттуда, Где ангел считает белье.
Моя золотая остуда. Легчайшее имя твое.
* * *
У меня возлюбленный
такой странный —
иногда дикий,
реже карманный.
Говорит, что я к нему странная —
вся какая-то деревянная.
А зачем он гасит все окна.
Мы одни на миг, а он уже гасит.
И вычеркивает номера телефонные
из моей головы
легким ластиком.
Я пустею, голова моя слезы нижет.
Шаткая – воздушный шар – улетаю.
А он дергает за нитку все ближе.
– Не пускаю, – говорит. И не пускает.
Он как дернет – так и падаю тяжко.
Чугуном-ядром к нему на плечи.
А он грустью хлестнет,
что ременною пряжкой.
– Ты, Наташа, любить не умеючи.
Я играючи,
топоча и плакая.
Он с присвистом, с прикриком,
с эхами.
А над нами погода – всякая.
Как над крышею, что уже съехала.
А под нами анфилады и портики.
И моря, и океаны посохшие.
Ничего не понимаю в эротике.
И способна не понять еще большее.
Столько ехали к морю – века.
Торопились и не успевали.
Широка ты моя, широка,
вот и Крым, в кабаках: трали-вали.
Наш пронзающий мир Ягуар
спорил с фурами легким движеньем,
обгонял – и сгорающий шар
над полями светил с напряженьем.
В кипарисах сверкнет, и еще,
и сияющей синью постелет
за обрывом. Но время печет,
а Икарус ползет еле-еле.
У Икара подкрученный ус.
Славный отпрыск венгерских рабочих,
ветеран, знает времени вкус,
молодецких полетов не хочет.