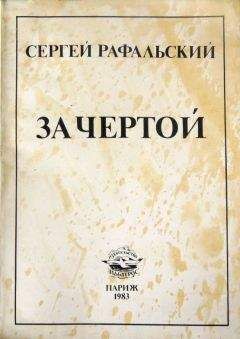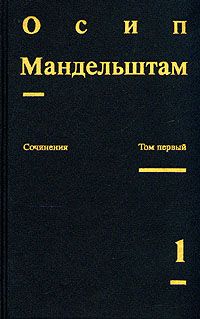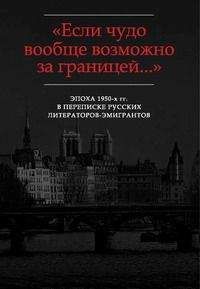Конец
Под вальс кружится карусель,
стрелки с небрежностью натужной
никак не попадают в цель,
в которую попасть им нужно.
Перед ленивой детворой
злой клоун шутит небогато,
и стынут черной пустотой
глаза у дамы бородатой.
А там, где побойчей фонарь,
встречает всех улыбкой влажной
Рахиль, а, может быть, Агарь,
вступившая на путь продажный.
И кажется — все решено,
все выточено, как стальное —
и внукам правнуков дано
все то же счастье площадное.
Икая звонко в дискантах,
низами подвывая чинно,
уже в бесчисленных веках,
как инвалид на костылях,
пойдет, хромая, вальс старинный.
И тот же будет ржавый звук,
что где-то в глубине органа,
средь романтических потуг
порой проходит зло и странно.
И — даже — вдруг не смолкнет он,
но, победив аккордеон,
крепчая, заревет трубой
финальной
над этой бывшей ложью бальной,
над этой правдой площадной —
его архангельский сигнал
не остановит карнавал.
И будут выстрелы стучать
все в той же вялой перестрелке,
и клоун будет подвигать
часов рисованные стрелки,
и девушка не закричит,
не зарыдает,
и лев из клетки зарычит,
но никого не испугает.
И лишь пирожник прям и прост —
и нос, как нос, и средний рост —
в середке прянишных сердец
усердно выведет: КОНЕЦ.
«Было четыре белых коня,
а теперь сорок четыре лошадиных сил,
но вы узнаете меня?»
Улыбкой толпу Он спросил…
И неудержимо
в новый свергаясь век,
город огромней Рима
сыплет из окон бумажный снег
и ревет громче бури,
громче пушечного салюта:
«Ave caesar!
Morituri te salutant!»
Эмигранты живут на чемоданах,
заседают в Кремле коммунисты,
загорелся, как факел смолистый,
облитый напалмом вьетнамский солдат…
…А в Париже — толпа в ресторане.
Чтоб тоску бытия превозмочь,
пьют и едят,
вифлеемскую празднуя ночь.
И ничье не встревожит сознанье,
что в поселке почти без названья
в избенке негожей
на грязной рогоже
иной зачинается Век:
сосет кулачонки сжатые,
пучит глаза голубоватые
Новый Сын Божий
предсказанный Сверхчеловек.
«Посмотри! Посмотри!»
И, взглянув за рукой сумасшедшего,
сиделка упала в обморок.
Она видела:
вихря зари с неба сшедшего,
взрыв невиданный мир обволок,
и, пронзая раскаленные туманы,
средь клубами взметнувшихся туч
сходил Безымянный,
как луч.
А под ним распадалось,
тлело,
трескалось и разрывалось.
…И над сиделки бесчувственным телом,
подавляя ненужную жалость,
с жестом античного поэта
сказал сумасшедший:
«Конец света!».
День задохнулся, как повешенный,
стихает гуд автомобилевый,
и в этот час все судьбы смешаны,
все вновь живет, чем прежде жили вы.
Ну что ж, мечта! Давай, наваливай!
Поменьше барахла серийного!
Хочу быть веткой попугаевой
у Козерога малярийного,
или горой пустого острова,
где клады многие закладены,
и у желтеющего остова
угадываешь зубы гадины,
или корветом под тайфунами,
чтобы — найдя затон атоловый,
гавайскими утешен струнами,
менять любовь на медь и олово,
иль где-нибудь у точки полюса,
под шкурами оледенелыми
плетеной лыжей шаркать по лесу
и в горностаев метить стрелами,
или параболой ракетовой
стремглав свалившись в бездну лунную,
увидеть сны не мира этого,
услышать музыку бесструнную!
О, романтические призраки!
Для вас иной взадох торопится,
сигая щукой из реки,
в амбаре слов на ритм охотиться,
чтобы стихами-клоунадами
пленять любителей копеечных,
и, разливаясь канареечно,
еще при жизни пахнуть ладаном…
Как старый облезлый чиж,
махнувший лапкой на волю давно,
которому в клетке уже и не больно,
которому все равно,
все невозвратно —
завидев солнечные пятна
по обоям
чувствует себя героем
дня,
и — глядишь —
начинает посвистывать невольно,
условную подругу маня —
так потерявший нить Ариадны
в лабиринтах судьбы поседевший поэт,
проснувшись утром,
вместо французской зимы отвратной,
в белом безмолвии мудром,
в разгульных снежных кружениях
над уездным городом Клямаром —
забывает об артритах и давлениях,
молодеет на сорок лет
и даже пытается петь
с цыганским угаром
фальшиво, но бойко
(продолжая еще молодеть):
«Гайда, тройка!..»
и сам убеждает себя, как с амвона,
что прием-то не так уж глуп:
ведь упали же стены Иерихона
от иудейских труб!
Знаешь ты, что мы друг в друге — я в тебе и ты во мне,
вот ты шел гулять с подругой и прижал ее к стене,
прижимаешь и целуешь, и ласкаешь кое-как —
это я, мой друг безвестный, это всех нас общий знак!
И в твоих касаньях стыдных, в сладкой похоти плотской
наших грубых, незавидных чувств и судеб общий строй.
И когда меня не станет, и когда и ты умрешь,
кто-то третий прочно станет в строй, в котором ты идешь,
и не важно, чем отличен, но важнее, чем похож,
будет жить, как я когда-то, и как ты теперь живешь.
Утомленный, ты зол и печален,
и дни твои скучно бредут
в бесперспективные дали
и обессмысленный труд.
Но вот над работой склонясь,
беря карандаш или нож,
вдруг сам почему не знаешь —
так звонко свистишь и поешь
и по неизвестной причине,
закончив свой день трудовой,
сквозь вечер льдяной и синий,
как в праздник, идешь домой…
Может быть, оттого, этот день отметив,
как рассветный туман, отступает тоска,
что где-нибудь — на далекой планете —
девушка целует твоего двойника?..
Где-нибудь под небом непохожим,
на планете непохожей, твой двойник
так же любит женщин светлокожих,
так же в жизни одинок и дик.
Тоже видел милость и немилость,
верил правде духа своего,
тоже ничего не получилось
из надежд неистовых его.
Так же в час — быть может, что случайный
или предназначенный как раз,
в никуда — или глухие тайны —
он уйдет, не опуская глаз.
Так же знает, что, как жизнь, бессмертен,
средь иных равнин или высот —
как приказ в заклеенном конверте —
наш двойник судьбу всех нас несет.
Когда над вершиной снежной
полдневный июль сияет —
мне кажется:
я молюсь Богу
и Он меня слышит и принимает
со всей моей жизнью грешной.
Мне кажется:
к счастью дорога
ведет безошибочно прямо,
Мне кажется:
мир — это замок
и я на его крыше,
а сердце птицей взлетает,
себя теряя,
еще выше
в небо Рая.
Что не удается ни картинам, ни краскам цветного снимка
и что сам понимаешь едва ли и еле —
отчего так волнует голубая горная дымка
над ракетами в небо направленных елей?
И хочется петь, и лететь, и молиться,
возможность без имени нежно тревожит.
Как будто все это было, а теперь только снится,
но сердце когда-то всему изменило,
в сомненьях устало, в разлуке остыло,
измену простило
и стало не то же…
…Но сердце забыло и вспомнить не может…
Высоко, на скале орлиной,
над ущельями, над долиной,
над блистаньями ледниковыми,
над вечерними просторами лиловыми —
стать легко, как будто бы взлетая,
у предельного обрывистого края,
растворяясь в золотом эфире,
вспомнить все, что было в этом мире,
вспомнить все, чему уже не сбыться,
надо всем без горечи склониться,
не благодарить и не молиться,
но с улыбкой, глаз не закрывая,
в свет шагнуть с обрывистого края.