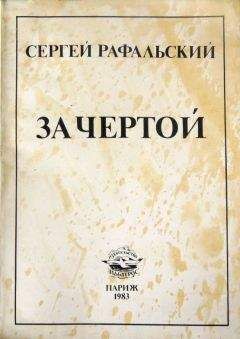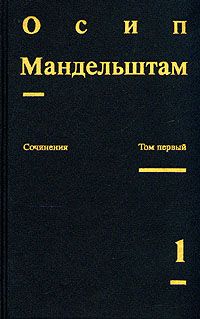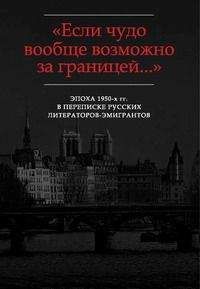Экзистенциальные сонеты
1. «Блаженно все — вне бездн и вне высот…»
Блаженно все — вне бездн и вне высот,
простое, как здоровое дыханье:
счастливый пар в сосновой русской бане,
со свежим огурцом из улья теплый сот,
под рюмку горькую — соленый анекдот,
в любви постельной тесное дыханье,
медвежий сон в периновой Нирване,
когда за окнами и кружит и метет…
Не презирайте ж то, что всем дается,
над чем, как флаг, смысл всем понятный вьется.
Тот чернозем, который Бог оралом
проходит сам и всем растит плоды
не разбираясь — и большим, и малым,
вне Истины, Добра и Красоты.
2. «Разгул страстей и в покаяньи — схима…»
Разгул страстей и в покаяньи — схима,
и смерть за то, чего — быть может — нет,
и Пушкина дуэльный пистолет,
и зверь безгневный старца Серафима,
и блеск Афин, и волчья хватка Рима,
тысячелетний гул его побед,
и вот теперь — в полях чужих планет
земных ракет причал вообразимый —
да, это все дела судьбы огромной,
но, может быть, блаженнее путь скромный,
что каждому пройти разрешено:
не покидать родимого порога,
есть досыта, под платьем женщин трогать,
с друзьями пить веселое вино.
3. «Мне безразлично кажется зловещим все…»
Мне безразлично кажется зловещим
все, чем загробный заселяют мрак,
и к жизни вечной не стремясь никак,
земной душой люблю земные вещи:
льдяной ручей, ущельем взятый в клещи,
в полях желтеющих неприхотливый мак,
наш русский квас и английский табак,
и ноги длинные у большеротых женщин.
И хоть порой (по разным основаньям)
ищу ключей к секретам мирозданья
и к Вечным Тайнам подымаю взгляд, —
но не скучаю средь земного тлена
и не стыжусь признаться откровенно,
что слаще Вечности мне спелый виноград,
4. «Не тело статуи, где красота — наряд…»
Не тело статуи, где красота — наряд
в безукоризненных пропорциях богини —
не роза райская — бурьян в земной долине
скорей влечет мой любопытный взгляд.
Мне нравится в буграх тяжелый зад,
как вымя — грудь, и — в правде грубых линий —
цветы прыщей, веснушек бурый иней,
и пот страстей и вожделений смрад.
Быть может, там — в надмировом пространстве,
где все свершается, что только снилось нам,
где заключаются круги планетных странствий —
высокой прелести всего себя отдам,
но в этом мире горестном и тленном
скучаю я со слишком совершенным.
5. «Цветком без нежности раскрашен ярко рот…»
Цветком без нежности раскрашен ярко рот,
полет бровей в дуге капризной сломан,
груди спеленутой расчетливо нескромен
сосков недевственных такой девичий взлет —
и как сравнить с ней бабы черноземной
коровьи груди, сдвоенный живот
и круп, как створки башенных ворот
в дубовости и тяжести огромной?
А все же не статуя — и даже не картина —
где жизнь, как мумия, в почете и пыли —
мне нравится нетронутая глина,
простое тело матери-Земли,
ведь из нее, упрямо хорошея,
Пигмалиону улыбнулась Галатея.
6. «Без пищи звери, люди без угла…»
Без пищи звери, люди без угла
и города, что войны разрушают…
И так же нас нещадно огорчают
унылой старости печальные дела.
А впереди — куда б душа ни шла,
какой бы ни была разгадка роковая —
даже в комфорте райском отдыхая —
никак земного не исправим зла.
Но кротко — в общем — сердце человечье,
и каждый раз, перетерпев увечье,
легко Творцу прощает грех творенья
за каждый миг бездумья и забвенья,
за многое пообещавший взгляд,
за все, о чем почти не говорят…
7. «Мне нравятся созревшие плоды…»
Мне нравятся созревшие плоды,
ленивые — без динамизма — позы
и пышно распустившиеся розы,
и роскошь вялая дородной наготы.
И с грезами рифмуя правду прозы,
я уважаю добрый вкус еды,
в постели честные бесстыдства и труды,
а в философии — решенные вопросы.
Не по душе мне символ и намек,
и прелесть тайн, и чтенье между строк,
а все-таки — и с каждым годом чаще —
я повторяю, как дитя урок,
что этот мир наш — только островок
в непостигаемом и вечном Настоящем.
8. «Когда воспет безоблачный рассвет…»
Когда воспет безоблачный рассвет
беспечных птиц традиционным хором,
когда навстречу розовым просторам
бросается с горы велосипед
и средь полей, где измеренья нет
ржаному золоту и нет преграды взорам,
зайчонок пухлый осторожным вором
через дорогу заплетает след —
тогда смиряется души моей тревога,
смысл утешительный вскрывается во всем,
как сына блудного, случайная дорога
меня ведет, конечно, в отчий дом.
И кажется, что, благостный поэт,
Бог переделал мир и вправду — «будет Свет!»
Распни себя ради тоски познанья,
сожги себя огнем большой мечты,
ищи, ищи пределов мирозданья,
ищи высот — и все же — вспомнишь ты,
о, вспомнишь ты, пища у смерти в лапах,
не бред ума в надзвездных аксиомах,
а дымный вечер, а медовый запах
кудрявой пеной взмыленных черемух!
И новым циклам обреченный атом,
о всем жалея, все простишь земному
за шепот встреч при месяце рогатом,
за расставанье на заре ленивой,
за радость стыдную дышать с руки счастливой
девичьей плоти тайным ароматом.
Она («Лицо широкое, бровей дуга тугая…»)
Лицо широкое, бровей дуга тугая —
не сушат гордостью и злостью не пугают,
а сдобный, пухлый — будто влажный — рот
как розовый бутон, немотствуя, цветет.
В глазах обыденности круг еженедельный:
кухонный чад и пышный лад постельный.
И грусть, и страсть в таких глазах проста,
как ветка дерева, как дерево креста.
Пусть тем лирических в ней не найдет поэт,
но самый хмурый улыбнется вслед,
но самый скромный крадучись, как тать,
пытается под платьем угадать
ее интимные привычки и повадки,
ее округлости, и впадинки, и складки,
и плечи, гладкие такой добротной лепкой,
и грудь, богатую обильем плоти крепкой,
и выпуклый живот, и розы на коленях,
и роскошь белую дородного сиденья,
и в жаркой тайности уже поспевший плод
ее неназываемых красот.
На каждый взгляд ответит ясным взглядом,
что поняла и, понимая, рада,
но — ах! — того, кто ляжет с ней в кровать,
на улице не станет выбирать.
Придет пора, и в праведном расчете
последует совету мудрой тети:
через фату, безгрешна и тиха,
впервые поцелует жениха.
И грянет музыка, и будет пир горой,
и сват их поведет перед зарей,
чтоб под иконами в широкую кровать,
шепча советы, уложила мать.
Тогда в перинах, будто в пене белой,
откроет ласкам кротко и несмело
и плечи, гладкие такой добротной лепкой,
и грудь, богатую обильем плоти крепкой,
и выпуклый живот, и круглые колени,
еще зажатые в глухом сопротивленьи.
От изобилий нежных и простых
не раз, не два сойдет с ума жених,
ломая боль, плоть заключится в плоть,
и труд любви благословив, Господь
из серебра заветного оклада
задует сам нескромную лампаду…
…Пусть больше нет в культурных наших странах
таких девиц, застенчиво жеманных,
и путь страстей рационально прям —
дух романтический, он, как осел, упрям:
он любит дали с маревом тумана,
не хочет упрощать искусство Дон-Жуана,
по Фрейду мыслящих не уважает дам
и видит в будущем один плотской бедлам.
Так ретроградно, так смешно, так одиозно!
Но если говорить по сердцу и серьезно,
после культуры, как рокфор гнилой,
порой вкуснее просто хлеб ржаной,
а всех блаженней тот, с дикой ветки, плод,
который летом всех земных широт
растет и зреет, чтоб себя отдать,
не зная — что к чему и не стараясь знать…