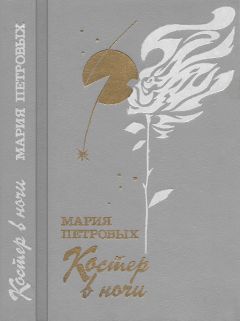1930
В угоду гордости моей
Отвергнула друзей,
Но этих — ветер, ночь, перрон —
Не вымарать пером.
Они дрожат в сияньи слез,
А плачут оттого,
Что слышат возгласы колес
Из сердца моего.
Но током грозной тишины
Меня пронзает вдруг,
И тело — первый звук струны,
А мысль — ответный звук.
Я узнаю мой давний мир —
Младенчество земли,
И ребра, струны диких лир,
Звучанье обрели.
Певуче движется душа
Сплетениями вен,
И пульсы плещут не спеша
Пленительный рефрен.
Во тьме растет неясный гуд,
Во тьме растут слова,
И лгут они или не лгут,
Но я опять жива.
И вновь иду с мечтою в рост,
В созвучиях по грудь.
Заливистая свора звезд
Указывает путь.
1931
Когда из рук моих весло
Волною выбило, меня
Крутило, мучило, несло
Безумие водоогня.
Я душу предала волнам,
Я сил небесных не звала,
Не знаю, как возникли там —
Вздымая небо — два крыла.
По волнам тени пронеслись,
И замер разъяренный хор…
Очнулась я.
Медузья слизь,
Песок да пена… До сих пор
Я в жизнь поверить не могу.
В моей груди кипела смерть,
И вдруг на тихом берегу
Я пробудилась, чтоб узреть
Черты пленительной земли,
Залив, объятый тишиной,
Одни гробницы гор вдали
Напоминали край иной.
Направо — мыс: глубоко врыт
В золото-серые пески
Священный ящер, будто скрыт
От тягостной людской тоски.
То — пращур тишины земной,
Прищуренных на небо глаз.
Он как бы вымолвит: «За мной —
Я уведу обратно вас!»
Солнцебиенье синих волн,
Хоть на мгновение остынь,
Чтоб мир был тишиною полн
И жил движением пустынь.
Долина далее… Такой
Я не видала никогда, —
Здесь в еле зыблемый покой
Переплавляются года,
И времени над нею нет,
Лишь небо древней синевы
Да золотой веселый свет
В косматой седине травы…
1931
Владимиру Васильевичу Готовцеву
Так было столетья: он днем
Лишь ветр вдохновения в меди,
Лишь царь, устремленный к победе
И замерший разом с конем.
Бесспорно, он страшен. Но все ж
Приблизиться можно и даже
В глаза поглядеть. Только дрожь
Охватит тебя и докажет,
Что гнев этих вечных очей
Незримо горит в углубленьях
Зрачков. Он не к нам. Он ничей.
Но каждый готов на коленях
Молить, чтоб его миновал
Сей взгляд неподсильный… Над миром
Ладонь холодеет… Как мал
Под нею огромный.
<…> Она ж
Державно парит между Богом
И нами. Не мир, а мираж
Прижала к земле. На отлогом
Отроге, на мертвой волне,
На каменном громе — возник он
С конем. Вдохновеньем вполне
Таков, как мечтал его Никон
Когда-то… Не страхом погонь,
Не силой узды конь копыта
Вздымает: им тот же испытан
Сокрытый под бронзой огонь.
Бесспорно, царь страшен. Но днем
Приблизиться можно и даже
Судить о коне и о нем,
Унизить хвалою… Когда же
Осенняя черная ночь
Ударит ветрами о струны
Дождя — их нельзя превозмочь,
Нельзя разорвать, иль буруны
Когда закрутят — не пройти.
Они не пропустят, живою
Стеной нарастут на пути,
До неба из дрожи и вою…
Никто не узнает, как там
Прибоями в темную память
Кидается ветер… К губам
Надменным лепясь, под стопами
Как лесть расстилаясь… И вдруг
Царь вздрогнул. Встряхнулся мгновенно
От медного сна. Верный друг
Восторженно ржет ему. Пена
Трепещет… О, тьмища судьбы!
Где прежний заржавленный слепок
Безудержной бури, борьбы
Неравной, лишь вторящий слепо
Прообразу грозному?.. Здесь
Раскатами первого смеха
Встречает очнувшийся эхо
Свободы неведомой, весь
Внимая тому, кто возник
Внезапнее мысли, кто вышел
На сцену, вдруг ставшую выше, —
Не призрак и не двойник.
До стона в костях одинок,
И те же тревожные звезды
Под ветром бровей… О, как просто
Он время и смерть превозмог!
* * *
Царь тронул коня — тот быстрей
Мгновенья, земли не касаясь.
Лишь пламени песня косая
Слетает с копыт и ноздрей…
Москва. Не дивясь ничему —
Очнувшемуся до того ли? —
Сквозь строй фонарей и сквозь тьму
Он мчится, хмелея от воли.
Вот площадь. Светла и пуста.
Коня он оставил у входа,
А там — тишина, темнота
И ветром широким — свобода.
О, время дымящихся плах!
Не надо о горестном, мимо!
Он лестницей всходит незримо,
Пугая себя в зеркалах…
Прошел меж рядов (а глазам
От слез все мерещилось в дрожи…),
Садится… И вот — он сам,
Такой, как тогда, но дороже,
Нужней… Вдохновеньем того,
Просвистанным бурей покоем
Колышется зал… Торжество
Дерзанья безмерного, в коем
Трусливым не видно ни зги.
У медного ж зрителя ноги
Дрожат, отражая шаги —
Свои же… Растущей тревоги
Удары, проникнув сквозь медь,
Протяжно гудят пустотою.
Стремительной судоргой тою
Свело ему голову… Зреть
Себя, слышать голос родной
Нутром неподвижной гортани —
Нет сил больше… Клокот рыданий
Вздымается темной волной.
Как хочет мучительно он
Уйти навсегда из металла.
Не может! И гибельный сон
По телу потек, лишь не стало
Той жизни бушующей с ним,
Лишь сдвинулся занавес… Вместе
С толпою, неслышим, незрим,
Он вышел на площадь. Возмездье
За вечность! И вот он опять
Вернулся на медную муку —
Державную трудную руку
Над миром чужим простирать.
1931
«Мне вспоминается Бахчисарай…»
Мне вспоминается Бахчисарай…
На синем море — полумесяц Крыма.
И Карадаг… Самозабвенный край,
В котором все, как молодость, любимо.
Долины сребролунная полынь,
Неостывающее бурногорье,
Медлительная тишина пустынь
Завершены глухим аккордом моря.
И только ветер здесь неукротим:
Повсюду рыщет да чего-то ищет…
Лишь море может сговориться с ним
На языке глубоковерстой тьмищи.
Здесь очевиднее и свет и мрак
И то, что спор их вечный не напрасен.
Расколотый на скалы Карадаг
Все так же неразгаданно прекрасен…
Сюда, рыдая, он сбежал
С обрыва. На нетленном теле
Багровой кровью пламенели
Ожоги разъяренных жал
Опалы божьей.
Даже море
Сужалось в ужасе пред ним
И зябло, отразясь во взоре
Зрачков огромных.
Недвижим
Стоял он. Тягостные крылья
Не слушались, и он поник
На камни и в тоске бессилья
Оцепенел, но в тот же миг
Воспрянул он и заломил
Свои израненные руки,
И вырвал крылья, и без сил
На камни рухнул вновь…
Сквозь муки
Два пламени взметнулись врозь
Взамен двух крыльев и впервые
Земли коснулись…
Словно лось,
Огонь с трудом ворочал выей,
Качая красные рога.
Они, багровы и ветвисты,
Росли, вытягиваясь в свисты,
Нерадостные для врага.
Изгнанник встал и посмотрел
На всплески пламени, на племя
Огней. Не по-земному смел
Был взгляд его.
В тяжелом шлеме
Златых волос его глава
Являла новое светило.
Он прыгнул в пламя, — это было
Жестоким жестом торжества.
Огонь, кормивший корни крыл,
На волю выпущен отныне, —
Затем, чтоб навсегда сокрыл
Тирана райского, в гордыне
Тучноскучающего.
Месть
Отрадней жизни для изгоя.
Качаясь в пламени, он весь
Был полон музыкой покоя
Иль вдохновением: он — Бог,
Он — гибнет, но и ТОТ ведь тоже!
— Ты будешь уничтожен, Боже,
Презренный райский лежебок,
Творец раскаявшийся!.. —
Так
Кричал он, облаченный в пламя,
Как в плащ дымящийся. Но враг
Не отвечал.
Огонь волнами
Валил к луне, огонь простер
Последний взлет, и вдруг разжалась
Твердь,
и разгневанный костер
Ворвался внутрь…
— Какую малость
Я отдал, чтоб изъять тебя, —
Вопило пламя. —
Как просторно
Жить, униженье истребя!.. —
Но вспыхнул блеск зарницы черной
Из пустоты,
и пламя вдруг
Окаменело, а кричащий —
Без головы, без ног, без рук —
Обрубком вырвался из чащи
Рыданий каменных, и ветр
Вознес его на горб вершины,
И там он врос в гранит…
Из недр
К нему вздымаются руины
Пожарища, к нему толпой
Стремятся каменные копья
И в реве замерший прибой —
Окаменевшее подобье
Былого пламени…
Кругом,
Как яростные изуверы,
Ощерившиеся пещеры,
Не дрогнув, принимают гром.
Костер, что здесь торжествовал,
Застыл на вечное увечье,
Здесь камни и обломки скал —
Подобие нечеловечьей
Могучей гибели…
Лишь мох
Краями хладного обвала
Струится, словно жаркий вздох
Души, что здесь отбушевала.
31 августа 1931