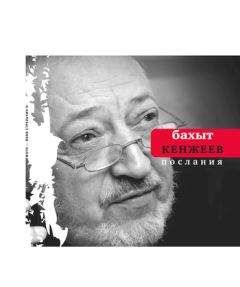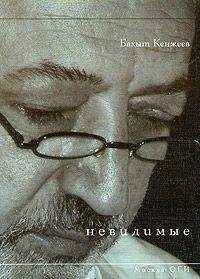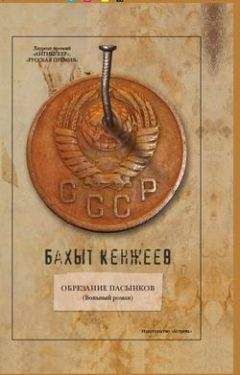………………………………………
………………………………………
Гроза, гостиница, бродяга на скамье.
Ступай и пой, покойся с миром.
В безлюдном холле заспанный портье
Склонился над своим Шекспиром.
Гремит ключами, смотрит в спину мне
С какой-то жалобной гримасой,
Пока в полнеба светится в окне
Реклама рубленого мяса.
Привычка жить… наверно. Всё равно.
Душа согласна на любое.
Включи другой канал, трескучее кино,
Стрельба, объятия, ковбои.
Проснусь – увижу луч, умру – увижу тьму
И, погружаясь в сумрак дымный,
Я одиночества такого никому…
Гори, гори, звезда моя, прости мне…
«Спи, патриарх, среди своих словарных…»
Спи, патриарх, среди своих словарных
Отар. По недопаханной степи
Козлища с агнцами в слезах неблагодарных
Слоняются.
Не убивайся, спи.
Лежи в обнимку с беспробудной лирой,
Старей во сне, и сам себя цитируй,
Пристанывай, вздыхай о тех ночах,
Лицом врастая в бурый солончак…
Пускай другой, поющий и пропащий,
Которому загубленное слаще,
Незваный гость на воровском пиру,
Ошибкой выйдет к твоему костру…
Пускай другой, и любящий другую —
Дорога оренбургская долга, —
Сближенье звёзд вполголоса толкуя,
Не различает друга и врага —
По вытоптанным пастбищам овечьим
Пускай бредёт, ему томиться нечем,
В чужой степи, без окон и огней —
Ему и жизнь, чтобы с ножом по ней…
«Смотри, любимая, бледнеет ночь, гора…»
Смотри, любимая, бледнеет ночь, гора
Над городом, граница сна и яви.
Не знаю, как тебе, а мне уже – пора
Спешить к прощальной переправе.
Ты говоришь – прощай, а я в ответ – прости.
Ты – выпили, а я подхватываю – пропил.
На вязь словесную, на светлый прах в горсти
Я столько радостей угробил!
Искал синонимов, не видел леса за
Деревьями, любви – за глупой ворожбою
На внутренностях слов, всё верил, что гроза
Ведёт к свободе и покою.
Окаменела, превращается в агат,
Кольцо к кольцу, просвет в кремнёвой оболочке,
В котором стиснуты, как десять лет назад,
Мои зарёванные строчки.
И в этот-то просвет, в воронку блеклых вод,
Где вой озёрных волн, птиц лающие стаи —
Подводит с каждым днём, и тянет, и зовёт —
Глухая, нежная, простая…
«Что это было? Бракосочетанье?..»
Что это было? Бракосочетанье?
Крещенье? Похороны? Первое свиданье?
Был праздник. Отшумел. И меркнет наконец
московский двор, и Чистый переулок,
раскрытое чердачное окно
и фейерверк конца пятидесятых —
ночная синька в выцветших заплатах,
каскад самоубийственных огней…
Мать плакала, я возвращался к ней.
Я детство прозевал, а молодость растратил —
пропел, продрог, прогоревал.
Родился под землёй подвальный обитатель
и возвращается в подвал.
Что светит надо мной – чужие звёзды или
прорехи в ткани бытия?
Где смертный фейерверк, сиявший в полной силе
с тех пор, как грозный судия?
Мой праздник отшумел. И меркнет наконец.
Что ж, выйду-ка и я без друга на дорогу
в тот самый, середины жизни, лес.
Сверну к оврагу, утолю тревогу
свеченьем будничных небес.
И одиноко станет, и легко мне,
и всё пройдёт. Действительно пройдёт.
Куда бредёшь? Ей-богу, не припомню.
Из смерти в жизнь? Скорей наоборот.
Нет, ничего не знаю, отпустите,
помилуйте! Не веря ни лучу,
ни голосу, не ожидая чуда,
вернусь в подвал, руками обхвачу
остриженную голову и буду
грустить по городу, где слеп заморский гость,
позорных площадей великолепье,
где выл я на луну, грыз брошенную кость
и по утрам звенел собачьей цепью…
«…а что дурак, и умница, и скряга…»
…а что дурак, и умница, и скряга —
всё перейдёт, и реки утекут,
пока в руках у Господа Живаго
переживёшь бессонницу и труд,
пока сквозь небо, в страхе терпеливом,
не пролетишь над вымершим заливом,
где музыка, прерывисто дыша,
не покидает звёздного ковша…
Верши, метель, забытую работу
над чёрною страницей из блокнота
ростовщика, где кляксою моё
лукавое, дурное бытиё
распластано… вся жизнь была залогом…
вся жизнь была… в беспамятстве убогом
спит город мой. Погас его гранит.
И мокрый снег ладони леденит.
«Экран, и вокзал, и облава…»
Экран, и вокзал, и облава,
кровавое небо дрожит,
и ворон над полем, где правый
в обнимку с виновным лежит.
Комар? Или дальние трубы?
Какой это, Господи, год?
В дверях деревенского клуба
нетрезвый толпится народ.
Откуда мерещится это,
впотьмах отнимается речь?
Очнуться. Достать сигареты.
Картонную спичку зажечь.
Хлебнуть из бутылки – какая
несладкая, Боже, лоза!
Опять, суетясь и вздыхая,
насильно закроешь глаза —
и снова лежишь у вокзала,
в разбитое спрыгнув окно…
Давно ли мне жизнь обещала
другое, другое кино?
Сержант, я даю тебе слово,
сержант, безо всякой вины
мне сыплется в горло полова,
солома гражданской войны…
И снова по площади грянет
убийственный черный металл,
одних испугает и ранит,
уложит других наповал —
и всё это сердцу не любо,
бежит, узнавая беду
в дверях деревенского клуба
и в зале, в четвёртом ряду…
Очнись же – созвездий в проёме
оконном – на тысячу лет,
и выпивка сыщется в доме,
креплёный российский букет,
но бьётся старинная лента,
и снова, безумен и чист,
к чугунным ногам монумента
слетает осиновый лист…
«Развал переулков булыжных…»
Развал переулков булыжных,
арбузы да запах борща,
где чаще всего передвижник,
сюжет социальный ища…
Он знает – здесь травятся газом,
зелёное глушат вино,
и вот – наблюдательным глазом
в подвальное смотрит окно.
Этюд – папиросный окурок
в бутылке. Учитель-еврей,
прищурившись, слушает хмурых
отцов и глухих матерей.
И замысел – трое с поллитрой
в подъезде, с намёком на вред
правительства, с бедной палитрой,
где цвета лазурного нет…
Работай – я спорить не буду,
под медленный шелест дождя
с авоськой порожней посуды
в запущенный дворик входя.
С весны ещё пахнет сиренью,
и с юности – горькой листвой.
Осеннее сердцебиенье
водою бежит неживой.
Что мёртвые – Третьему Риму!
Глаза им клюют соловьи.
Соседи за пьяного примут,
оставят лежать у скамьи.
Шумит, багровея, рябина.
Архангел играет с трубой.
И смотрит упавшему в спину
тюремный клочок голубой…
Виноватые ищут полёта,
кистепёрую мучают речь.
А у ветра простая забота —
раздувать, перетряхивать, жечь.
Повторит позабытое имя —
и опять, без воды и огня,
небесами бежит дорогими,
безработные тучи гоня.
Я и сам ни о ком не тоскую,
и давно уже хочется мне
записаться на службу простую,
скажем, месяцем в зимнем окне.
Не болтать и не плакать по дому,
одиночество честно терпеть
да под утро ребёнку больному
колыбельную песенку петь…
«Не убий, учили, не спи, не лги…»
Не убий, учили, не спи, не лги.
Я который год раздаю долги,
Да остался давний один должок —
Милицейский город, сырой снежок.
Что ещё в испарине тех времён?
Был студент речист, не весьма умён,
Наряжался рыжим на карнавал,
По подъездам барышень целовал.
Хорошо безусому по Руси
Милицейской ночью лететь в такси.
Тормознёт – и лбом саданёшь в стекло,
А очнёшься – вдруг двадцать лет прошло.
Я тогда любил говорящих «нет» —
За капризный взгляд, ненаглядный свет,
Просыпалась жизнь, ноготком стуча,
Музыкальным ларчиком без ключа.
Я забыл, как звали моих подруг,
Дальнозорок сделался, близорук,
Да и ты ослепла почти, душа,
В поездах простуженных мельтеша.
Наклонюсь к стеклу, прислонюсь тесней.
Двадцать лет прошло, будто двадцать дней.
Деревянной лесенкой – мышь да ложь.
Поневоле слёзное запоёшь.
Голосит разлука, горчит звезда.
Я давно люблю говорящих «да»,
Всё-то мнится – сердце сквозь даль и лёд
Колокольным деревом прорастёт.
А должок остался, на два глотка,
И записка мокрая коротка —
Засмоли в бутылку воды морской,
Той воды морской пополам с тоской,
Чтобы сны устроили свой парад,
Телефонный мучая аппарат,
Чтобы слаще выплеснуться виной —
Незабвенной, яблочной, наливной…
«Теплынь, лягушачья слякоть – а утром сулили снег…»
Теплынь, лягушачья слякоть – а утром сулили снег.
Толкает меня под локоть невежливый человек
И просит на опохмелку, и дела-то – медный грош.
И сам я монеткой мелкой качусь под осенний дождь…
Как странно бренчать на лире, кадавром лежать на льду
В придуманном лучшем мире, на тридцать седьмом году.
Кепчонка фальшивой кожи, ночной адресок в руке —
Дрожит человек прохожий в замызганном пиджачке.
О чем ты шумишь, приятель? Кончай наводить тоску.
Я тоже всю жизнь растратил, сшибая по пятачку,
И долго ловил звезду я – единственную свою,
Печалясь и негодуя у времени на краю.
А всё умирать грешно нам – бездельникам, голытьбе,
Любителям-астрономам с паучьим гнездом в трубе.
На улице дождь, и мокрый, почти невозможный снег
Смерзается коркой блёклой. Кончается трудный век.
Кончается век огромный, уходит – не удержать.
Ему в подворотне тёмной газетным клочком лежать,
Забыть свой язык и имя, виною страдать двойной,
С ребятами слободскими хоккей обсуждать в пивной.
И я говорю: чего там кривить онемевший рот.
За первым же поворотом крылатый охотник ждёт.
И падает луч на площадь, и сердце летит за ним,
Узнав стреловидный росчерк под ордером розыскным.
И ляжет в полях пороша, и егерь выйдет на след.
Ему дорогое – дёшево, дарёному счёта нет.
И щеголь в ночной витрине, калека среди теней,
Стирает багровый иней с крахмальной груди своей.
«Иной искатель чаши с ядом…»