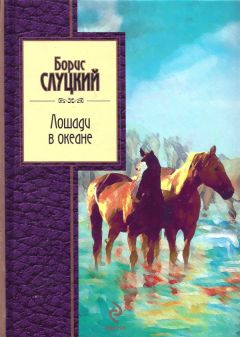Повод для пародии тут, конечно, был. И если говорить об исторической правоте, то автор пародии был к ней, наверно, ближе, чем автор пародируемого стихотворения. Но самоощущение, самосознание, выразившиеся в этом стихотворении Слуцкого, были истинными.
Другое дело, что после войны из «комиссаров» он был разжалован.
Это нашло отражение во многих его тогдашних стихах. Например, вот в этих:
Когда мы вернулись с войны,
я понял, что мы не нужны.
Захлебываясь от ностальгии,
от несовершенной вины,
я понял: иные, другие,
совсем не такие нужны.
«Комиссарами» теперь назначали людей совсем другого склада. Но он был комиссар не по назначению, не по должности, а по призванию. По складу характера и души. И расстаться с этим своим комиссарством, сбросить его, как сбросил военную гимнастерку, сменив ее на штатский пиджак, — не смог:
Я мог бы руки долу опустить,
я мог бы отдых пальцам дать корявым.
Я мог бы возмутиться и спросить,
за что меня и по какому праву…
Но верен я строительной программе…
В его самозваном комиссарстве была, конечно, и комическая сторона (над ней-то и посмеивались не только его недоброжелатели, но и друзья). Но тут надо сказать, что, сохраняя верность своей «строительной программе», кое-чего он, случалось, все-таки добивался. Оно было не бессмысленным, не совсем бесплодным, это добровольно взваленное им на себя комиссарство:
«В течение многих лет каждое утро я прихожу в фонетический кабинет Союза писателей — узкую высокую комнату в доме на Поварской, которая тогда называлась улицей Воровского. От пола до потолка стеллажи с плоскими коробками магнитофонных лент и грампластинок… Тарковский, Твардовский, Тушнова, Тычина… Каверин, Каменский, Катаев, Кириллов… Фадеев и Форш, Эренбург и Яшвили.
А дело было так. Как-то, работая еще в Музее Маяковского, я записывал чтение Бориса Слуцкого. Мы разговорились, и я стал жаловаться на то, что записи писательских голосов регулярно не делаются, а те, что делаются, часто теряются: потеряли, например, запись Багрицкого, размагнитили довольно много записей чтения Василия Каменского…
А Слуцкий трепачей не любил и в ответ на мои стенания сказал: „Изложите письменно“.
И вот по требованию Слуцкого я написал о том, что происходит в области звукозаписи: ценные записи хранятся крайне небрежно, а новые, если и делаются, то — не те и не так, как нужно. Слуцкий дал ход этой бумаге, она очень долго разбиралась в различных инстанциях и комиссиях, и он ничего мне об этом не говорил…
Вдруг мне звонят: „По вашей докладной в Союзе писателей решено открыть отдел звукозаписи, фонотеку. Так что приходите. Когда придете?“
Какая фонотека? Как — приходить? Я даже не сразу сообразил, о чем речь, и начал было говорить, что это какое-то недоразумение… Потом вспомнил о разговоре со Слуцким, состоявшемся года полтора назад…
Так повернулась моя судьба».
(Лев Шилов. Голоса, зазвучавшие вновь. М., 2004. С. 84–85.)А вот еще один пример этого его самозваного комиссарства.
Через несколько дней после того, как в «Литгазете» было напечатано стихотворение Евтушенко «Бабий Яр», в газете «Литература и жизнь», которую мы в своем кругу презрительно именовали «Лижи» (лижут, мол, задницу начальству), появилась грязная антисемитская статья известного тогда литературного проходимца Дмитрия Старикова. Проходимец этот был человеком довольно начитанным (во всяком случае, в рядах его единомышленников таких эрудитов, как он, было немного), и он довольно хитроумно столкнул скандальное стихотворение Евтушенко с одноименным (1944 года) стихотворением Эренбурга. Вот Эренбург, дескать, в отличие от Евтушенко, в том давнем своем стихотворении проявил себя как настоящий, подлинный интернационалист.
Эренбург в то время был в Риме, но о подлой выходке Старикова узнал почти сразу. О «кругах по воде», которые пошли от брошенного Стариковым камня, ему быстро просигналил туда, в Италию, «комиссар» Слуцкий. И не просто просигналил, а дал ему соответствующее комиссарское распоряжение:
«Было бы очень хорошо, если бы Вы телеграфировали свое отношение к попытке Старикова прикрыться Вашим именем — немедленно и в авторитетный адрес».
Илья Григорьевич так и поступил. Но не сразу. Сперва он отправил в «Литгазету» коротенькое письмо:
«Находясь за границей, я с некоторым опозданием получил номер газеты „Литература и жизнь“ от 27 октября, в котором напечатана статья Д. Старикова „Об одном стихотворении“. Считаю необходимым заявить, что Д. Стариков произвольно приводит цитаты из моих статей и стихов, обрывая их так, чтобы они соответствовали его мыслям и противоречили моим. С уважением,
Илья Эренбург».
Но «Литгазета» напечатать это его «Письмо в редакцию» не посмела. Напечатала только после того, как Эренбург пожаловался Хрущеву и от того поступило соответствующее распоряжение.
Комиссар Слуцкий ситуацию понимал лучше, чем Эренбург. Он не сомневался, что без обращения «в авторитетный адрес» тут не обойтись.
* * *
Но эпиграмма Коржавина, из которой я вспомнил (пока) лишь первую ее строку, на самом деле имела совсем другой, гораздо более глубокий смысл.
Прочтем ее теперь от первой строки до последней:
Он комиссаром быть рожден,
И, облечен разумной властью,
Людские толпы гнал бы он
К непонятому ими счастью.
Но получилось все не так.
Иная жизнь, иные нормы,
И комиссарит он в стихах —
Над содержанием и формой.
Комиссарить в стихах «над формой» — это значит насиловать стих, «ломать строку о колено», как выразился однажды по этому поводу ближайший «друг-соперник» Слуцкого Давид Самойлов.
Слуцкий и сам описал свой творческий метод в тех же терминах — или, лучше сказать, в пределах той же образности — со свойственной ему грубой прямотой, далеко превосходящей резкость коржавинской эпиграммы. Я имею в виду уже приводившееся мною его стихотворение, в котором стих уподобляется политруку, поднимающему в атаку роту:
И тогда политрук — впрочем, что же я вам
говорю, — стих — хватает наган,
бьет слова рукояткою по головам,
сапогом бьет слова по ногам.
И слова из словесных окопов встают,
выползают из-под словаря,
и бегут за стихом, и при этом — поют,
мироздание все матеря.
Хотя и не самая впечатляющая, но едва ли не самая важная строка тут — «и при этом поют». Как ни удивительно, но при таком способе делания стихов слова у Слуцкого и в самом деле — поют:
Но пули пели мимо — не попали,
Но бомбы пролетели стороной,
Но без вести товарищи пропали,
А я вернулся — целый и живой.
Сам он качество своих стихов оценивал так:
Средства выражения — мои…
Собственную кашу я варил.
Свой рецепт, своя вода, своя крупа.
Говорили, чересчур крута.
Как грибник, свои я знал места.
Собственную жилу промывал.
Личный штамп имел. Свое клеймо.
И его при этом ничуть не смущало, что каждому истинному поэту присущее «лица необщее выраженье», его «личный штамп», это «свое клеймо» были у него выработаны, выделаны.
Напротив, в этом он видел едва ли не главное их достоинство:
Чтоб значило и звучало,
чтоб выражал и плясал,
перепишу сначала
то, что уже написал.
Законченное перекорежу,
написанное перепишу,
как рожу — растворожу,
как душу — полузадушу.
Но доведу до кондиций,
чтоб стал лихим и стальным,
чтоб то, что мне годится,
годилось всем остальным.
Однажды, рассказывая мне о Кульчицком, он сказал, что тот был на голову выше каждого из их шестерки (Кульчицкий, Павел Коган, Слуцкий, Самойлов, Наровчатов, Михаил Львовский) не только силой и качеством дарования, но и глубоким пониманием того, как и что надо делать молодому стихотворцу, чтобы выработаться в настоящего поэта. Например, он (Кульчицкий) задал себе — и осуществил — такое задание: всю лирику Пушкина переписать стихом Маяковского!
Выслушав это, я, видимо, должен был восхититься. Но у меня это сообщение вызвало скорее юмористическую реакцию, от выражения которой я, впрочем, удержался.
Именно эту юмористическую реакцию и выразил — своей эпиграммой — Коржавин.
Но победителя не судят. А в том, что из своего «комиссарства над формой», из принципиальной и упорной борьбы с безликой гладкописью Слуцкий вышел победителем, не может быть ни малейших сомнений.