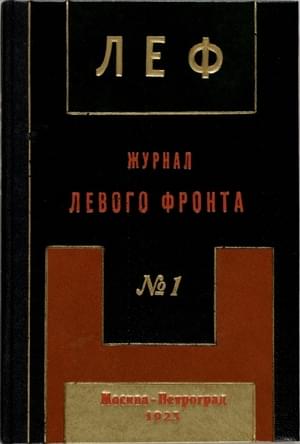уже с первым прорывом рамок так называемых изобразительных средств.
Этап трибунно-плакатный – время первого оплодотворения нового искусства революционно пролетарским содержанием. И –
Этап слияния искусства с производством.
Вот – эволюция футуризма по 1921-22-ой год. Как в представлении «на расстоянии», так будем надеяться – и «вообще»!
Перед нами не было еще теории этой эволюции, – как вряд ли она есть и теперь, – но было усиленное распропагандирование образцами. Мы в общем уступали в образцах, но, нечего греха таить – у нас было больше досуга подумать.
Это нами – в числе прочего – на расстоянии, и в результате оплодотворяюще-здорового взаимоподхода общественников и искусстроителей, – осознано, что футуризм – это не школа, а некая перестраивающая человека в устремлении к «футуризму», тенденция, – что только и объясняет постепенный отход от футуризма всех вольно и невольно эстетствующих, но и естественный подбор вокруг него всего молодого, волепобедного-огнеупорного.
Так, ставя все точки над «и», мы уже к середине 1921 года писали («К диалектике искусства», предисловие):
«Пролетариат уже оплодотворил своим живительным дыханием новое искусство, – не дожидаясь, когда ему укажут его „термин“ фарисеи и книжники, и, если футуризм второго этапа уже не только должен быть признан нужным, но и стал необходимым рабочему классу, окрасив в основные устремления свои и творчество наиболее видных и талантливых пролетарских поэтов, то футуризм последних дней, поставивший, быть может еще впервые, на ноги ходившее на голове понятие искусства, не как индивидуального „искусничанья“ и „украшения“ жизни, а как одной из производственных форм, как коллективного выковывания из самой жизни новых образцов, – то футуризм последних дней, футуризм раздвинувший рамки вчера еще „школы“ до реальнейшей, чем сама реальность, „философии“, – футуризм ныне уже по праву должен быть признан пролетарским искусством в самом буквальном – организационном и духовном – смысле этого слова»…
И – далее:
«Счастье футуризма в том, что, он, зародившись в рамках буржуазного строения искусства, завершил свое развитие не „школьным“ самоизжитием, как это было с иными течениями в нашем художестве последних десятилетий, а прямым, в соответствии с открывшейся новой эрой бытия, проростанием в коммунистическое, новое сознание человека. Каковы бы ни были даже ближайшие только очертания искусства класса работников и какие бы новые и новые названия отдельные моменты и углубления его ни приобретали, – футуризма из него, особенно последнего этапа футуризма, – как „слова из песни не выкинешь“…»
На производственничестве, – как третьем, и ныне продвигаемом нами далее этапе футуризма, – впервые территориально, к концу 1922-го года, скрещиваются наши единоустремленные, искусственно расторгнутые когда-то, пути. Производственничество – вот тот последний, объединяющий нас, путь, по признаку которого строится наша группа.
Осознание его – поможет и дальнейшему продвигу.
2. Попытка анализа.
Просматривая нашу левую столичную литературу по теории искусства за последние 4–5 лет, – а ее так немного! – с любопытством наблюдаешь, как стремительно, скачками, в соответствии с лихорадочными прыжками эпохи, развивалось самоосмысление в области искусства у наших российских друзей, но и – вот так же, как у нас – в клещах противоречий, робкого жаления в ряду с радикализмом, в путах очевидного эклектизма!
Я вряд ли ошибусь, сказав, что первым опытом нового осознания искусства в РСФСР явилась петербургская газета «Искусство Коммуны», – любопытнейший теоретический еженедельник построенный по типу памфлета (декабрь 1918 – апрель 1919). Это было время бури и натиска рабочего класса, время веселого наступления на неприкосновеннейшие «культурные ценности», как «учредительное собрание», «демократизм», «бесклассовые наука и искусство», «жречество» всякого рода, – и понятно, почему таким атеистическим задором проникнуты виднейшие тогдашние писания коноводов искусства коммуны, от стихотворных «приказов по армии искусства» Маяковского, теоретических наскоков Брика, до комфутской романтики Кушнера и даже спокойных относительно «подвалов» Пунина, этой тяжелой артиллерии газеты…
«На улицы – футуристы,
барабанщики и поэты!» –
– призывал поэт, главком газеты, – и верил:
«Сотую встретим годовщину!»
Это было, конечно, программой-минимум искусства коммуны, – и с больших букв, и с маленьких, – т.-е. призыв к искусству выйти на улицу [1], – ибо этим призывом еще определяется лишь средний этап футуризма, этап плакатно-трибунный. Поэту, именем которого на три четверти окрасится этот первый и по форме, и по содержанию революционный этап, – великолепно аккомпанируют летучие теоретики газеты, пытающиеся и самую теорию вынести на улицу.
Задорный Брик, во всеоружии революционного отрицания, во имя каких-то новых, пока еще слабо осязаемых, истин, – уже вцепляется остервенело в бороды «маститых», под всплески первых революционных барабанов стаскивая их с «божественных» амвонов так называемого «свободного» искусства и «жречества».
Тихо-мечтательный Кушнер уже громко воодушевляется, свергая всякую не барабанную музыку и откровенно задаваясь вопросом: «Не лучше ли в городскую канализацию спустить одряхлевшее сладкозвучие и завести себе громыхание помогучее, более соответствующее природе нашего слуха?»
Им вторят – несомненно, искренно – даже те, увлекшиеся музыкой эпохи, которые обжегшись далее на пушках, принятых за добрые демократические трубки, отошли позднее от искусства коммуны и ударились – кто в охранение дедовских традиций по музеям и изо, кто – в вялую, аполитичную эмигрантщину.
«Искусство есть действие и, как таковое, может принадлежать только настоящему; позади мы имеем результаты действия, впереди – планы действия», –
– вот лозунг искусства эпохи.
«Мистерия-буфф», сатиры и оды революции Маяковского, наряду с характернейшим знаменем эпохи, какой-нибудь мастерской переделок театральных классиков –
– вот лучшие ее тараны.
И все же, это – только программа-минимум. Необычайно выпукла, великолепно действенна, сплошное «аксьон директ», но – слишком уж велик разбег, слишком императивны органические задачи дня, задачи строительства, – для того, чтобы теория искусства, даже и в эти уже дни, как-то инстинктом и лихорадочно, не прорывалась бы в прямое строительство.
И вот, мы видим, что – инстинктом и враздробь, в причудливо эклектическом, по завтрашней линии, антураже, – но все главнейшие слова, потребные на завтра, в «Искусстве Коммуны» уже брошены.
Только что рассыпавшись по многоцветно сверкающей толпами и демонстрациями улице, искусство не растеривается, однако, в ней, то в позе трепетного барабанщика, не столько ведущего народ, сколько им подталкиваемого, то в позе гениального хвостизма, неизбежного в громкозвучащие эпохи, – но оно, как раз наоборот, стремится к собиранию себя – от распыления в толпе к сконденсированной вещной энергии, от состояния гениальной изолированности к трудовому слиянию.
И – в то время, как практика искусства еще самонадеянно уверяет, что «все совдепы не сдвинут армий, если марш не дадут музыканты», – теория уже недоверчиво заглядывает вперед, когда с возможным усилением темпа реальной продвижки, слишком отъединенная от базы надстройка, даже и пошедшая на роли барабана, рискует оказаться стихийно отброшенной