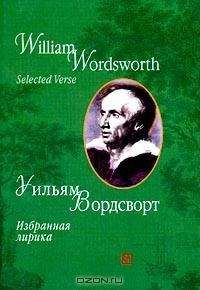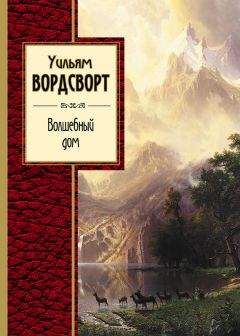"I dropped my pen; and listened to the Wind…"
I dropped my pen; and listened to the Wind
That sang of trees up-torn and vessels tost —
A midnight harmony; and wholly lost
To the general sense of men by chains confined
Of business, care, or pleasure, or resigned
To timely sleep. Thought I, the impassioned strain,
Which, without aid of numbers, I sustain,
Like acceptation from the World will find.
Yet some with apprehensive car shall drink
A dirge devoutly breathed o'er sorrows past:
And to the attendant promise will give heed —
The prophecy, — like that of this wild blast,
Which, while it makes the heart with sadness shrink,
Tells also of bright calms that shall succeed.
"Я отложил перо; мне шквальный ветер пел…"[80]
Я отложил перо; мне шквальный ветер пел
О бригах гибнущих, о буреломных чащах, —
Полуночный псалом, утраченный для спящих
Невольников забот и повседневных дел.
Помыслил я тогда: вот мой земной удел —
Внимать мелодии, без меры и созвучий,
Чтоб я ответствовал на вещий зов певучий
И страстным языком природы овладел.
Немногим явственен надгробный стон такой,
Звучащий набожно над горем и тоской
Давно минувших лет; но он, как буря эта,
Порывом яростным печаля сердце мне,
О наступающей пророчит тишине,
О легкой зыби волн в сиянии рассвета.
THE FRENCH AND THE SPANISH GUERILLAS
Hunger, and sultry heat, and nipping blast
From bleak hill-top, and length of march by night
Through heavy swamp, or over snow-clad height —
These hardships ill-sustained, these dangers past,
The roving Spanish Bands are reached at last,
Charged, and dispersed like foam: but as a flight
Of scattered quails by signs do reunite,
So these, — and, heard of once again, are chased
With combinations of long-practised art
And newly-kindled hope; but they are fled —
Gone are they, viewless as the buried dead:
Where now? — Their sword is at the Foeman's heart;
And thus from year to year his walk they thwart,
And hang like dreams around his guilty bed.
ФРАНЦУЗЫ И ИСПАНСКИЕ ПАРТИЗАНЫ[81]
Жара, и голод, и с далеких гор
Сухие ветры, и ночной поход
По кручам и среди гнилых болот,
И наконец, всему наперекор,
Настигнуты испанцы, и в упор
Теснят их, гонят, бьют, но, в свой черед, —
Как куропатки, чуть беда пройдет,
Перекликаясь, составляют хор, —
Они сплотятся! Их не обмануть,
Не взять, не окружить со всех сторон, —
Отряд исчез, как будто погребен.
Но где их меч? Врагу направлен в грудь!
Они ему пересекают путь
И омрачают беспокойный сон.
"Weak is the will of Man, his judgement blind…"
"Weak is the will of Man, his judgement blind;
Remembrance persecutes, and Hope betrays;
Heavy is woe;-and joy, for human-kind,
A mournful thing so transient is the blaze!"
Thus might he paint our lot of mortal days
Who wants the glorious faculty assigned
To elevate the more-than-reasoning Mind,
And colour life's dark cloud with orient rays.
Imagination is that sacred power,
Imagination lofty and refined:
'Tis hers to pluck the amaranthine flower
Of Faith, and round the sufferer's temples bind
Wreaths that endure affliction's heaviest shower,
And do not shrink from sorrow's keenest wind.
"Слаб человек и разуменьем слеп…"[82]
"Слаб человек и разуменьем слеп;
Тяжел он для Удачи легкокрылой,
Беспомощен пред Памятью унылой
И в тщетной жажде Радости нелеп!" —
Так думал тот, кто сумерки судеб
Впервые озарил волшебной Силой,
Что сразу вознесла Рассудок хилый
Над тусклой явью будничных потреб.
Воображенье — вот сей дар желанный,
Свет мысленный и истинный оплот,
Лишь амарант его благоуханный
Чело страдальца тихо обовьет, —
Его не сдуют бедствий ураганы,
Его и ветер скорби не сомнет.
"Surprised by joy-impatient as the Wind…"
Surprised by joy-impatient as the Wind
I turned to share the transport — Oh! with whom
But Thee, deep buried in the silent tomb,
That spot which no vicissitude can find?
Love, faithful love, recalled thee to my mind —
But how could I forget thee? Through what power,
Even for the least division of an hour,
Have I been so beguiled as to be blind
To my most grievous loss! — That thought's return
Was the worst pang that sorrow ever bore,
Save one, one only, when I stood forlorn,
Knowing my heart's best treasure was no more;
That neither present time, nor years unborn
Could to my sight that heavenly face restore.
"Смутясь от радости, я обернулся…"[83]
Смутясь от радости, я обернулся,
Чтоб поделиться — с кем, как не с тобой? —
Но над твоей могильною плитой,
Увы, давно безмолвный мрак сомкнулся.
Любовь моя! Я словно бы очнулся
От наваждения… Ужель я мог
Забыть, хотя бы на ничтожный срок,
Свою потерю? Как я обманулся?
И так мне стало больно в этот миг,
Как никогда еще — с той самой даты,
Когда, у гроба стоя, я постиг,
Неотвратимым холодом объятый,
Что навсегда померк небесный лик
И годы мне не возместят утраты.
While not a leaf seems faded; while the fields,
With ripening harvest prodigally fair,
In brightest sunshine bask; this nipping air,
Sent from some distant clime where Winter wields
His icy scimitar, a foretaste yields
Of bitter change, and bids the flowers beware;
And whispers to the silent birds, "Prepare
Against the threatening foe your trustiest shields."
For me, who under kindlier laws belong
To Nature's tuneful quire, this rustling dry
Through leaves yet green, and yon crystalline sky,
Announce a season potent to renew,
'Mid frost and snow, the instinctive joys of song,
And nobler cares than listless summer knew.
Еще и лист в дубраве не поблек,
И жатвы с нив, под ясным небосклоном,
Не срезал серп, а в воздухе студеном,
Пахнувшем с гор, где Дух Зимы извлек
Ледяный меч, мне слышится намек,
Что скоро лист спадет в лесу зеленом.
И шепчет лист певцам весны со стоном:
Скорей на юг, ваш недруг недалек!
А я, зимой поющий, как и летом,
Без трепета, в том шелесте глухом
Густых лесов и в ясном блеске том
Осенних дней, жду с радостным приветом
Снегов и бурь, когда сильней согрет,
Чем в летний зной, восторгом муз поэт.
"Hail, Twilight, sovereign of one peaceful hour!.."