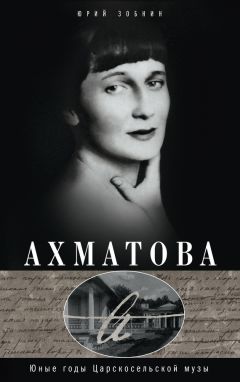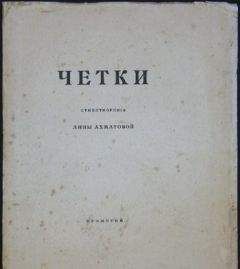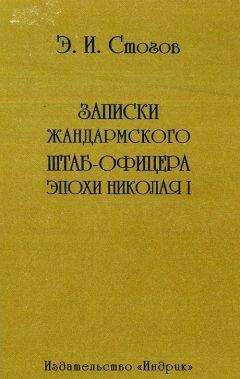Ознакомительная версия.
ТОКИО, 24,II-9,III. («Рейтер»). Вчера сражение шло по всему фронту успешно для японцев, вытеснивших русских с важных позиций. Ночью генералу Куропаткину явилась необходимость отойти. В районе армии Оку осталось 8 000 русских убитых; остальной армии причинен втрое больший урон.
ТОКИО, 24,II-9,III. Хотя размер успеха японцев ещё не известен, но Токио уже празднует победу. Город украшен флагами, толпы народа на улицах раскупают специальные издания газет, поздравления приносят военному министерству и главному штабу…
Итоги Мукденской битвы вызывали и вызывают до сих пор большие споры. Японцы наступали и, в итоге, заняли Мукден, но эта эффектная победа досталась дорогой ценой (15 892 убитых и 59 612 раненных) и носила тактический характер. Русские, потеряв убитыми всего 8 705 человек, отошли к заранее подготовленным позициям в двух сотнях верст севернее Мукдена и, закрепившись, быстро пополняли убыль. Маршалу Ивао Ояме пополнять армию было нечем. Все его людские и материальные ресурсы были исчерпаны под Мукденом сполна, и пополнений с островов ждать не приходилось. Как и мыслил мудрый Куропаткин, грандиозное сражение на истощение сил грозило обернуться для сухопутных войск микадо подобием Бородина, а занятие Мукдена – гибельным московским триумфом, окончательно парализовавшим обескровленную армию Наполеона I в 1812 году.
Однако в эти безупречные военно-стратегические расчёты вмешалась политика. Смута, внезапно обрушившаяся на Россию в самый канун схватки, сделала «кутузовскую» стратегию неудобопонятной для потрясённого изнутри общества. Всюду разом заговорили о военной «катастрофе» на Дальнем Востоке. Газеты были наполнены паническими известиями о «бесчисленном множестве» повозок с провиантом и боеприпасами, захваченных противником, о доставшемся японцам в числе трофеев знамени Виленского полка, о страшных зверствах, учинённых победителями над русскими раненными и медицинским персоналом в оставленном Мукдене. Масляная седмица оказалась насквозь отравлена газетной желчью, страхами, гневом и не предвещала ничего хорошего ни стране, ни двум трогательным царскосельским влюблённым, затерявшимся в своём романтическом мире волшебных грёз и фантазий.
Масляничные гуляния – Семья Голенищевых – Кутузовых – Сотрудник «Красного Креста» – Роковое катание на «вейках» – Переезд в дом Соколовского – Болезнь Инны фон Штейн – Любовные страсти в великопостные дни – Дуэль на Светлой седмице – Разрыв с Гумилёвым – Отъезд Штейнов в Евпаторию – Ахматова остаётся одна.
Наступление масленицы, по обыкновению, возвещалось в столичных газетах и журналах всевозможными рассказами, анекдотами, рисунками. В воздухе носился аромат горячих блинов. На бесконечных «гостевых» застольях с раскалёнными блинными стопами чередовались сёмга, балык, икра, снетки и всевозможные подливки; пили же в эти дни, преимущественно, акцизную водку, «себе и отечеству на пользу». Впрочем, в гостях заседало заслуженное старшее поколение. Для детей и простого люда устраивались балаганы, горки, снежные забавы, а молодёжь предпочитала катание на «вейках». С «широкого четвертка» эти разукрашенные открытые сани с нарядной пёстрой полостью и такими же плетёными сиденьями-подушками были видны повсюду. Лошадей щедро украшали разноцветными лентами, на шеи надевали «шаркуны» с колокольчиком и бубенцами. По улицам с утра до вечера стоял лихой звон. Извозчики красовались друг перед другом, на тротуарах шпалерами выстраивались зрители. Многие, веселясь, дурачились, «рядились», надевали маски, раскрашивали лица сажей или жжёной пробкой. Холостяков и молодожёнов со смехом и шутками забрасывали снежками.
Обычаям этим царскосёлы не изменили и в 1905-м, хотя веселье, воцарившееся в городе с 21 по 27 февраля, как никогда напоминало пир во время чумы. Известие об отступлении под Мукденом подоспело как раз 24-го, к «широкому» четвергу, когда гуляния, накопив трёхдневную инерцию, достигают того градуса, за которым под христианской «сырной седмицей» начинает мерещиться прародительная демоническая тьма безумного и блудного языческого карнавала:
А слепые-то подглядывали,
А глухие-то подслушивали,
А безногие побегли догонять,
А безрукие побегли отбирать.
Маслена, маслена, белый сыр,
А кто не оженился – тот сукин сын!
Понятно, что Ахматова и Гумилёв встречали «широкую масленицу» вместе со Штейнами и с Валентином и Натальей Анненскими. Им, наверняка, сопутствовал Андрей Горенко, превратившийся за зимние недели в ближайшего конфидента Гумилёва и поверенного сестры в её любовной интриге. Из прочих участников царскосельской bande joyeuse в биографических материалах, относящихся к началу 1905 года, возникает только имя «Голенищева-Кутузова, который был другом Николая Степановича» и запомнился девятилетнему Виктору Горенко в компании со старшим братом и с воздыхателем сестры[238].
Из биографического письма В. А. Горенко неясно, о ком из двух братьев Голенищевых-Кутузовых идет речь. Младший, Георгий, на несколько месяцев старше Гумилёва, в минувшем учебном году был его одноклассником в Николаевской гимназии. Как раз в эти дни Георгий Голенищев-Кутузов, требуя отслужить в гимназической церкви панихиду по «жертвам уличных беспорядков 9-го января», попал в поле зрения помощника попечителя петербургского учебного округа, отчего в гимназию последовал соответствующий запрос. Отвечая на него, директор И. Ф. Анненский характеризовал своего подопечного как «мальчика доброго и благородного, но ветряного»: «Очень любит удовольствия, особенно танцы. Шалить способен очень, смутьянить нет. Вожаком никогда не был и по натуре не может сделаться – двух мнений о нём между его руководителями нет».
Но «другом Гумилёва», несмотря на изрядную разницу в возрасте, вполне мог оказаться и старший брат, Владимир Голенищев-Кутузов. Гумилёвы и Голенищевы-Кутузовы приятельствовали семьями, нанося и возвращая визиты с улицы Средней на улицу Малую, где со всеми детьми проживала вдовая Елизавета Васильевна, мать Владимира и Георгия. Семья была почтенной. Елизавета Васильевна состояла в родстве с грозным жандармским генералом Дмитрием Треповым, взошедшим после недавнего Кровавого воскресенья на пост петербургского генерал-губернатора[239]. Покойный муж Елизаветы Васильевны, отставной поручик Виктор Фёдорович Голенищев-Кутузов (1840–1887) был уездным предводителем дворянства в Люцине и «непременным членом Дриссенского уездного по крестьянским делам присутствия». Помимо двух сыновей Виктор Фёдорович произвёл на свет дочь Ольгу[240]. Через несколько лет после его безвременной кончины, в 1895-м, осиротевшее семейство покинуло насиженную Витебскую губернию и обосновалось в Царском Селе, без особого блеска, но очень достойно («семья очень хорошая, средств очень мало», лаконично обрисовывает ситуацию Анненский).
Владимир Викторович Голенищев-Кутузов родился в Режице 22 июня 1879 года и до пятнадцати лет рос в этой латышской провинции, где и начал гимназический курс. В Царском Селе он попал под крыло Анненского, дружил с его сыном и был вхож в дом, однако в Николаевской гимназии (по второгодничеству, как позднее Гумилёв) задержался сверх срока[241]. Как и многие другие питомцы Анненского, он был склонен к стихотворчеству, но никакого непосредственного следа в отечественной словесности эта его склонность не оставила. По завершению гимназии, в 1900 году Владимир Голенищев-Кутузов поступил на Арабо-персидско-турецко-татарский разряд факультета восточных языков Петербургского университета. Явно незаурядный выбор рода деятельности мог привлечь к нему Гумилёва (также обнаруживавшего тогда опредёленную склонность к восточной экзотике) в плане «дружбы». Да и с чего им стало не дружить? Судя по всему, Кутузов-старший был совсем открытый человек и добрый товарищ на вечеринках, возможно, несколько даже и «без царя в голове», как его закадычный приятель фон Штейн. Притом, вместе с сестрой Ольгой, Владимир Викторович сохранял самое выдержанное направление мыслей, коль скоро дело касалось политики. «Студент из самых умеренных», свидетельствует Анненский. Как видно, в семействе Голенищевых-Кутузовых были представлены в 1905 году все настроения российской общественности.
В конце концов, не очень важно, кого из братьев Голенищевых-Кутузовых имел в виду в 1974 году Виктор Горенко. Важно, что в дни «широкой масленицы» 1905 года, как представляется, все молодые Голенищевы-Кутузовы гоняли на «вейках» по Царскому Селу в компании молодых Горенко, Штейнов, Анненских и Гумилёвых. И в один из таких лихих разъездов Ахматова оказалась в разукрашенных санях вместе с Владимиром Викторовичем. О дальнейшем рассказывает её знаменитое стихотворение 1936 года:
Одни глядятся в ласковые взоры,
Другие пьют до солнечных лучей,
А я всю ночь веду переговоры
С неукротимой совестью своей.
Я говорю: «Твоё несу я бремя
Тяжёлое, ты знаешь, сколько лет».
Но для неё не существует время,
И для неё пространства в мире нет.
И снова чёрный масленичный вечер,
Зловещий парк, неспешный бег коня.
И полный счастья и веселья ветер,
С небесных круч слетевший на меня.
А надо мной спокойный и двурогий
Стоит свидетель… о, туда, туда,
По древней подкапризовой дороге,
Где лебеди и мёртвая вода.[242]
«По въезде в Царское дорога проходила под обоими так называемыми Капризами, то есть арками с фантастическими башенками в китайском вкусе, соединяющими два обширные царские сада. По обе стороны дороги величественно тянулись покрытые снегом деревья и аллеи с изящными беседками и мостиками», – так описывал упомянутую Ахматовой местность между Екатериниским и Александровским парками Я. К. Грот.
Ознакомительная версия.