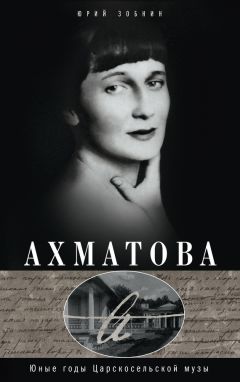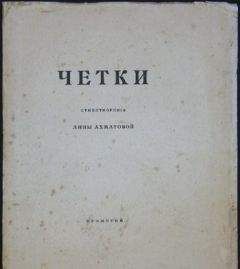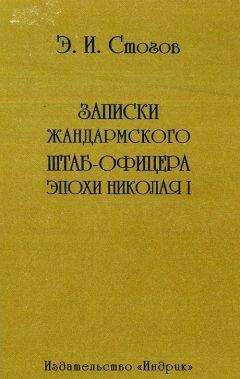Ознакомительная версия.
…Я не могу, как Пушкин, сказать о себе: «Но я любя был глух и нем». Впрочем, ведь и у него много любовных стихотворений.
А я как влюблюсь, так сразу и запою. Правда, скорее петухом, чем соловьём. Но кое-что из этой продукции бывает и удачно[230].
К тому же Гумилёв вовсе не молчал. В первую половину 1904 года он в стихах продолжал оплакивать Воробьёву («Песня о певце и короле») и… воспевал новую возлюбленную, «Марианну Дмитриевну Полякову», которой посвящена великолепная ранняя поэма «Дева Солнца», навеянная чтением Г – Р. Хаггарда и символистов:
Явилась юность – праздник мира,
В моей груди кипела кровь
И в блеске солнечного пира
Я увидал мою любовь.
Она во сне ко мне слетала,
И наклонялася ко мне,
И речи дивные шептала
О золотом, лазурном дне.
Она впёред меня манила,
Роняла белые цветы,
Она мне двери отворила
К восторгам сладостной мечты.[231]
О Поляковой, как и Воробьёвой, сейчас почти ничего не известно. Возможно, её сестрой была незаурядная балерина и педагог Е. Д. Полякова[232]. Сохранился подаренный «многоуважаемой Марианне Дмитриевне» томик стихов Константина Бальмонта, с дарственной надписью «от искреннего преданного друга, конкурента Бальмонта, Н. Гумилёва» и с мадригалом, вновь славящим «Деву Солнца». Как антитеза этому образу в поэзии Гумилёва и возникает затем «ахматовская» тема «Девы Луны» (на этом противопоставлении, собственно, и построена поэма «Осенняя песня»).
Вот, пожалуй, и всё.
Разумеется, современному читателю непонятно, как мог Гумилёв в 1903–1904 годы столько времени носиться с неведомыми Воробьёвой и Поляковой, когда рядом с ним уже обреталась САМА АХМАТОВА. Но Гумилёву-то как раз неведомой оставалась именно Ахматова со всеми её талантами и добродетелями. В начале декабря 1903 года старший брат познакомил его с Тюльпановой. Он знал, что прямодушный Дмитрий серьёзно увлечён Тюльпановой (которая была, напомним, на год старше Ахматовой и происходила, в отличие от той, из чинного и уважаемого царскосельского семейства). Но Тюльпанова, на беду, всюду появлялась со своей непонятной подругой – вот Гумилёв и решил, по-братски, пособить, взяв эту досадную помеху «на себя». Так возникли знаменитые «встречи на катке», о которых Ахматова неоднократно упоминала («приблизительно 10 встреч») и которые совершенно непонятны при полном её равнодушии к «мальчикам Гумилёвым». Получается, что, «ничуть не заинтересовавшись», она затем, в январе-феврале 1904 года, провела в компании с ними практически все праздничные и воскресные дни – недурно для едва знакомых, да ещё и неинтересных кавалеров!
Отношения Дмитрия и Тюльпановой никак не складывались. «С Митей мне было скучно, – признавалась она, – я считала (а было мне тогда уже пятнадцать), что у него нет никаких достоинств, чтобы быть мною отмеченным». Их роман постепенно шёл на убыль, плавно истаяв через несколько месяцев.
А вот Николай, напротив, весной вдруг заинтересовался Ахматовой (тут не обойти вниманием мартовский пасхальный бал у Гумилёвых – единственный её визит в их семью в качестве «гостьи»). Описанные Тюльпановой встречи у Мариинской гимназии могут приходиться только на март-апрель 1904 года, других сроков при внимательном перечислении событий придумать нельзя. Так Ахматовой выпал, наконец, шанс побыть в роли гамсуновской Эдварды и помучить объявившегося поклонника. Впрочем, долго тот не продержался, – в общем, понятно почему. В апреле Гумилёву исполнилось восемнадцать, роман с Поляковой (вероятно, ровесницей) у него неукоснительно продолжался, «отворяя двери к восторгам сладостной мечты». Зачем была нужна ещё и взбалмошная пятиклассница, пусть даже и необыкновенная, он, конечно, при здравом размышлении, представить себе не мог. Ахматова же немедленно (апрель-май) впала в меланхолию, перестала есть, измучила домашних, сбежала из дома… По-видимому, в отличие от Тюльпановой с Дмитрием, ей с Николаем всё-таки особенно скучно не было и некоторые достоинства в нём она обнаружила. Но и Гумилёв, как можно понять, во время возникшей паузы не оставлял воспоминаний. Встретившись в июне на «объединённом» выпускном балу в Городовой Ратуше, оба единодушно возобновляют знакомство, несколькими днями позже Ахматова получает именинный «императорский букет». На этом они и расстались на летний перерыв.
А осенью перед Гумилёвым предстала самая настоящая «литературная дева», манерная, но очень дружелюбная. Двухмесячное пребывание на богемных раутах у Фёдорова сообщило Ахматовой неколебимую уверенность в собственном поэтическом призвании. Она побывала среди избранных, – и мир поделился в её глазах на неравные сферы «своих» и «чужих». В этой новой системе координат Гумилёв был, безусловно, «свой». Поэтому вся гимназическая гамсуновщина была отставлена: поэт общался с поэтом. Кроме того, существовал ещё один деликатный нюанс, побуждавший Ахматову ценить осенние прогулки с Гумилёвым: «литературная дева» была… не очень начитана. Надо думать, присматриваясь к блестящей россыпи словесных перлов среди говорливых завсегдатаев «дачи Митрофаныча», она смогла прочувствовать свой досадный ущерб вполне. А Гумилёв с раннего отрочества читал много и охотно, забираясь в такие дебри, о которых Ахматова, освоившая из мировых имён лишь Пушкина (что вовсе неплохо, но, разумеется, недостаточно), даже не подозревала. Достаточно сказать, что в четвёртом классе гимназии, помимо книг Пушкина и Лермонтова (романы Жюля Верна, Купера и Хаггарда не в счёт), он зачитывался «Потерянным и возвращённым раем» Дж. Мильтона, «Неистовым Роландом» Л. Ариосто и «Гайаватой» Лонгфелло. С собой в Царское Село он привёз целую философскую библиотеку – от Канта и Карла Маркса до Шопенгауэра, Ницше и Владимира Соловьёва. Получив «Весы» – с увлечением погрузился в новейшую словесность. К тому же рассказчиком он был великолепным, ничуть не хуже Фёдорова и его дачных знатоков. Стоит ли удивляться, что в сентябре-ноябре 1904-го Ахматова, на редкость внимательная и послушная, исходила с Гумилёвым все аллеи Царского Села и Павловска?
Подобная метаморфоза, в свою очередь, не могла не произвести весьма сильного действия на Гумилёва. Рядом с ним возникла чуткая к его речам, умная и тонкая собеседница. По сохранившемуся эпистолярному признанию, он скоро осознал, что в отсутствие Ахматовой, ему ни с кем не удавалось «поговорить так, как… хотелось бы». Собственно, одно это могло само по себе пробудить незаурядную симпатию. Но как сообщают едва ли не дословно повторяя друг друга многочисленные мемуаристы, обаяние интеллектуальное и духовное причудливо переплеталось в ней с особым эротическим обаянием: она в сáмом буквальном смысле слова влюбляла в себя собеседника. Тот попадал в странную, чувственную зависимость от бесед с Ахматовой, испытывал едва ли не физическое страдание в отдалении от неё и по любому, даже самому незначительному поводу, стремился возобновить прерванный диалог, наслаждаясь уже не глубиной её суждений, а одним лишь созерцанием, простым ощущением её близости. И пусть в 1904 году она ещё не могла владеть в совершенстве всем арсеналом подобных очарований: живая непосредственность ранней юности искупала промахи. К тому же на одесских собраниях у Фёдорова она, наверняка, хотя бы вчерне, освоила куртуазные приёмы актерской и литературной богемы и теперь имела неограниченную возможность их применять и совершенствовать. Если лихие попытки ряда биографов навязать Ахматовой и Фёдорову бурную сексуальную интригу не могут выдержать никакого здравого рассуждения (об этом позже), то всеобщая влюблённость с неуловимыми намёками, волнующими комплиментами и «тайно-тревожными поцелуями», как уже говорилось, действительно, была непременным галантным фоном дачного салона на Большом Фонтане.
Поэтому нет ничего удивительного, что в осенней символической поэме Гумилёва печальная лунная дева «тихими чарами» (!!) постепенно затмевает солнечную летнюю дриаду. А в декабрьской «Русалке», преподнесённой Ахматовой в качестве рождественского подарка, признание автора звучит, в сущности, без всяких художественных недомолвок:
И чувство это было взаимным и искренним! И Гумилёв, и Ахматова, вспоминая обаятельные подробности возникновения их любовного романа, рисуют полудетскую идиллию, единодушно обращаясь к трогательным образам наивных античных пастушков, созданных некогда фантазией Лонга:
И делали всё они вместе, стада свои пася друг от друга неподалеку. И часто Дафнис пригонял овец, отбившихся от стада, часто и Хлоя сгоняла с крутых утёсов слишком смелых коз. Бывало и так, что один из них сторожил оба стада, когда другой чересчур увлечется игрою. А игры были у них пастушьи, детские. Хлоя на болоте сбирала стебли златоцвета, плела из них клетки для цикад и часто, этим занявшись, овец своих забывала. А Дафнис, нарезав тонких тростинок, узлы их колен проколов, одну с другою склеив мягким воском, до ночи учился играть на свирели. И вместе, порою, они пили молоко и вино, а еду, что с собой приносили из дома, делили друг с другом. И можно б скорее увидеть, что овцы и козы врозь пасутся, чем встретить порознь Дафниса с Хлоей. <…> Он учил её играть на свирели, а когда она начинала играть, отбирал свирель у неё и сам своими губами скользил по всем тростинкам. С виду казалось, что учил он её, ошибку её поправляя, на самом же деле через эту свирель скромно Хлою он целовал[233].
Ознакомительная версия.