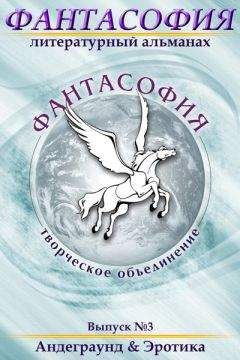Фуги и прелюдии обещали нечто большее, смену обстановки. Откуда я вот только знаю, что Чемоданов – это не просто Чемоданов в том простом понимании, а то самое нечто большее, родственное Баху и Моцарту? И мы все растем в эту сторону, хотя бы хочется в это верить.
В провинции Талые ничего особенного не происходило. Разве, что покупка новой сельхозтехники произошла недавно. Только недавно состоялось 5 лет назад, поэтому о каких-то переменах ничего нельзя сказать. Но в том-то и дело, что изменения происходили в горожанине Семафорофф, он чувствовал что-то необъяснимое. И каждое лето в деревню Морковкино провинции Талые, и каждое лето с глухого вокзала ст. Талые он томился-ехал в проворном «пазике», и каждую весну он, так или иначе думал об электричке «Ишимбай – Талые», каждую зиму он смутно догадывался, что всё-таки уедет и найдёт себя там, где каждое лето ничего особенного и не происходит – там, где каждую осень сапоги обрастают грязью, там, где не сразу объясняется объяснимое, там, где не объяснимо, почему же так хорошо.
В радиосводках местных новостей бытия шла привычная для уха лапша, вываливаясь из пластмассовой коробки репродуктора. Монгольский С. ел бутерброды и запивал чаем. Вообще-то он уже второй день в гостях у господина Чернова и поэтому обилие черновских пластинок было весьма кстати. Безмолвие, которого он жаждал-искал, обрушилось после завтрака на него, жаждущего, ждущего из ватных стоваттных колонок суггестивными тембрами, хай-хаё-хэтами и волынками из Гребенщикова. Суггестивные т. е. густые, т. е. набросанные кистью на холст тембра в темпе 120 ударов в минуту зодиакально вибрировали убористым почерком, космические трансмембраны свербили-бурили звузыально уши Монгольского, воспоминания о тихой заводи, костёр и спиртные проносились воспоминательно в ушах и визуальной, образной памяти товарища-господина М-ского и чудесный тембр тромбоново-мумбоюмбово продолжал утешать и продолжал лежащего от счастья на полу – комсомольца Монгольского.
Где-то в Улан-Баторе или в Эрденете монгольский комсомолец Жанмын Суггеддиин тембристо-домброво брал верхние ноты из степных кладовых маленькой чудесной страны, которая когда-то владела половиной мира, двуструнность щипкового инструмента преобразовывала тайные необъяснимые чаяния комсомольца в разливистую песню степи с ритмическим рисунком топота коня, прапра – и ещё раз прапра – другого коня, на котором мог восседать, если не сам Чингисхан, то кто-нибудь из его приближенных.
Безмолвие степной песни и суггестивной густоты хотело стать глобальным, всемирным, но не это глобально, а то, что люди едины в своих сокровенных единственных мечтах и перемещениях, тоже сокровенных.
Игра отражений тех вещей, которые можно увидеть воспоминанием и та призывает быть самим собой с помощью пути следования за неизвестностью.
И те неизвестности отражаются в ежедневном и еженедельнособытийном, в умении общаться разнолюдно. И вот следующий день ещё насыщеннее, чем вчерашнее феерическое настроение, и ежедневность уже кажется радужноцветастой и налицо хотение говорить с облаками. Я пел песню в то время, когда ревербератор повторял за мной. В то время, когда ревербераторный повтор самомнительно искажал моё мнение, я пел тогда. Когда я пел песню, за мною шёл по пятам ревербератор и развеивал все мои сомнения, он махал за моей спиной вентилятором и весь электорат был моим – где-то в количестве 15-ти человек, и было прохладно, так как вентилятор махал на вербальном уровне полотенцем фейербахово. И я берусь упоминать о Фейербахе, не углубляясь в философские глубины и новости от Гомера, не буду больше.
Вот и солнце подоспело к обеду и лучеватых прожекторов дня хватит на отличный самонастрой.
Найдёт ли Холмовский-Холмсский – не найдёт ли вовсе – всё равно игра отражений где-нибудь найдётся, может быть возможность некоего узнавания самого себя в Холмсском, в двух «эс» фамилии, в перемещении из левого канала в правый стереоусилителя. Это только нагромождение слововищ, когда охота пуще неволи, и лень сильнее часового механизма, и сомнение на сантиметр короче ростом, чем самолюбование. И мне самому будет интересно почитать об иллюзиях подводного мира. Найдёт ли Космосов простое человеческое счастье?
Солнцеподобный император отпустил (по собственному приказу) погибать самолеты. Кодекс чести имеет большее место во всех японских явлениях, если перемешивать разные столетия, если варить суп из крапивы. Большое место, если белая ворона согласится на житье-бытье в моей скучной компании до понедельника, если успеть взяться руками за голову и не стать немного сумасшедшим, если в себе искать чего-нибудь и не найти и быть всегда глуповатодовольным.
Вот, что я могу наврать в письме из сиюминутностей и из того, как наползают друг на друга пластинки в цветных конвертах.
Ревербератор перебирал слова и подсказывал мне, а я махал полотенцем и охлаждал его пыл. Пыль плыла, поезд разогревался, бело-зелёная быль абстрактноамбразурноузорно гудела как вентилятор.
Сергеенко передвигался в медленном поезде, железная дорога замысловато перестукивала, и это помогало заглянуть в неисчерпаемую кладовую, в самого себя. Боюсь, что там ничего не было и за этим «ничего не было» спрятано и плохое, и хорошее, и если баржу толкает буксир, значит, лето будет таким же, как и в прошлом году.
Цзао Синь ловил рыбу, глядя на баржу. Он всегда отпускал пойманную рыбу, ведь фосфор не такая уж необходимость. Поэтому в Поднебесной царила благодать, что не могло не передаться Сергеенко, тем более, когда есть такая возможность смотреть из окна на товарные вагоны с длинными номерами: «60232097» с весомыми скобами, с пружинистой конструкцией на железных колесах. Кстати, вагонов в товарном составе всегда 56, и не больше.
Хочется простых вещей, в «тетрис» поиграть, например.
Бао Тао жил неподалеку от Ли Фэя, впрочем и это вода. Как-то намедни Ли Фэй зашел к Бао Тао, а того дома не было, так и не получил Ли Фэй спичек и «уровня» для проверки наклона садовых дорожек, которую вымостили чужестранцы из заморского государства Чжанфао и всё это предвещало вечер чудес и неограниченных возможностей. И причем здесь Бао и Ли? Есть ли жизнь на Марсе? В Датском Королевстве что-то случилось. И стоило клоуну лопнуть шарик, и тут же упала чья-то кепка.
Ли Фэй погрузился в телевизор, и в процессе смотрения стало ясно, что надо уезжать в города, в города: в Далянь, в Акапулько. В телевизоре была другая жизнь, на солнечные малые города упал летний удар, железяки звенят, будучи подвешенными за крючки, сколько воды попадает в бассейн, столько же и утекает. Уже не до спичек и не до игр с котёнком. Я ничего не понимаю в метаниях Ли Фэя. Но смеющееся солнце разжигало оптимизм.
Идрис Кипарисов-Мударрисов
Пародия на Б. Явраева
Там, где тысячи лет кочевали предтечи,
Выбивало копыто пушистую пыль,
Словно загнанный зверь, в марафонском забеге
Я паду средь степи, где постель мне – ковыль.
И приснится мне сон, где безжалостной паркой
Будешь жилы мне вить, оседлав, как ярмо.
Я тряпичным Пьеро, как постылым подарком,
Упаду в грязь лицом, обоняя дерьмо.
Твои ноздри взорвет, словно жерло вулкана,
Словно ямы воронок на страшной войне.
За восставший «ручник» тормознешь хулигана,
Задохнувшись в его шелковистом руне.
Ты потащишь раба на невольничий рынок,
Где без соли сожрешь, с алчным блеском в глазах.
И не выдержать мне похотливейших пыток,
Когда жадные пальцы обшарят мне пах.
Словно гады сплетутся в кровавом соитьи
Небывалый урод и мозгляк-имбецил.
Лесбиянки порвут себе губы и тити.
Сам себя подоит узколобый дебил.
Убегу из притона, бардачного мрака,
Не стесняясь людей и небесных глубин.
Сучьим соком плюясь, все равно как собака,
Я скажу себе: славненько я поблудил!
Идрис Кипарисов-Мударрисов
Пародия на Р. Ягудина
Пухлорыла луна у надгробной антенны.
Гулко, волгло, как в склепе, и продрись зари.
Мы как трупы теней заползаем под стены.
Я да с мертвыми бельмами глаз упыри.
Они дрючат меня, похотливые кошки,
Пьют из вены яремной, из сонной артерии пьют.
Щекотно и бесстыдно, как лобные вошки,
Через ноздри и уши с причмоком мне мозги сосут.
Из прогнившего савана лезут могильные черви,
Заползая мне в рот, даже в девственно сомкнутый зад.
И как струны поют этим стервам довольные нервы,
От блаженства стенают и мелкою дрожью дрожат.
Мои вены наполнятся тухлой мочой с трупным ядом.
Вместо мозга служить будет верно конклав червяков.
Трепещите враги и мычите беременным стадом,
Вы утоните в море зловонном помоев-стихов.
А, когда отпадут, моей крови напившись, пиявки,
На карачках с бордюра в зловонную лужу сползу,
Мое тело согреют живущие в лужи козявки,
«В изголовье повесят упавшую с неба звезду».
Буду пьян я от огненной жидкости, прущей по венам,
И меня, как обычно, бухого повяжут менты.
И никто не поймет, что ведь это непризнанный гений
В вытрезвителе плачет и просит с похмелья воды.
Идрис Кипарисов-Мударрисов