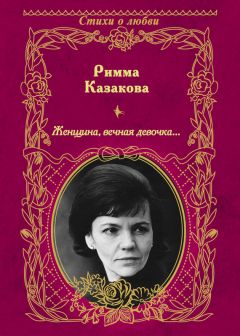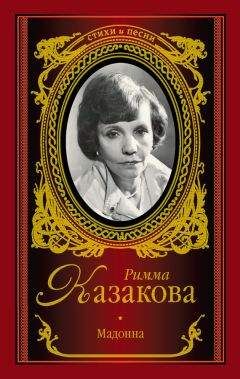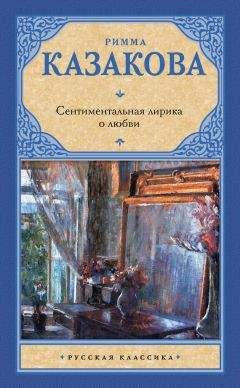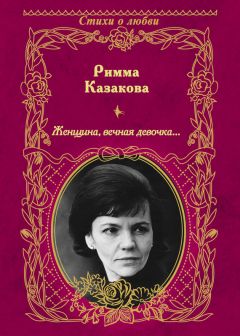не исчезай, прошу тебя!
В календаре не смею метить
твою посмертную зарю.
Мне говорят: исчез в бессмертье.
«Не исчезай!» – я говорю.
А ты, что пел, как жил, нелживо,
смеешься: мол, себя не жаль…
И говоришь всему, что живо,
и мне, как всем: «Не исчезай!..»
Достаточно, что не солгу,
что свой несильный голос ввысь тяну.
Знать все и впрямь я не могу,
лишь проливаю свет на истину.
И ты добавь, и ты прибавь,
вторгайся в монопольность деспота,
хотя бы мелочью приправ
явленью истины содействуя.
Как никогда, искажена
жизнь формулами полувнятными,
но то, что истина – одна,
похоже, навсегда понятно мне.
Я где-то около хожу,
но мне не топчется, шагается,
когда хоть что-нибудь скажу,
что с истиною сопрягается.
Жалею Пушкина, как сына.
Когда б в те годы я жила,
я для него бы попросила
у жизни, если бы могла,
лишь эту светлую, простую –
земных забот его предел, –
лишь Горку Савкину крутую,
где дом построить он хотел.
Летела жизнь, неслась, ломалась, –
войне подобная, игре…
Ах Боже мой, какая малость:
приют на Савкиной Горе!
Смотрю вокруг с нее пристрастно.
Земля в рассветном серебре…
А ведь и вправду, как прекрасно
на этой Савкиной Горе!
И Пушкин знал, как жить, что делать
в расцветной той своей поре!
Нелепо: недостало денег
на дом на Савкиной Горе.
Все было: жизнь, любовь, признанье.
Все будет: слава на века!
Но все равно щемит, пронзает,
как не рожденная строка,
как детское святое горе, –
тот, ни тогда и ни потом
на Савкиной пушистой Горке
его не выстроенный дом…
«Есть национальные святыни…»
Есть национальные святыни, –
к ним любовь щемящая не стынет.
Скажешь: Пушкин…
Выдохнешь: Есенин.
Блок…
Души спасенье.
Потрясенье.
Проясненье пятен светлых, темных
на полотнах жизни многотомных.
Поясненье: всем, что жизнь и значит,
до рожденья ты рожден и начат.
В этом мире есть за что сражаться
со времен минувших и доныне,
есть за что душе живой держаться…
Есть национальные святыни!
Есть чему восторженно дивиться,
с добрыми соседями делиться,
зная, что живешь ты не в пустыне…
Есть национальные святыни!
«Сойди с холма и затеряйся разом…»
Сойди с холма и затеряйся разом
в траве, коль мал, и в чаще, коль велик.
Сойди с холма! – велят душа и разум
и сердце опустевшее велит.
Наполнит вдох цветенье диких вишен,
прильнет к ногам грибная полутьма…
Ты зря решил, что вознесен, возвышен
лишь тем, что озираешь даль с холма.
Сойди с холма – и станет небо шире,
и будет жизнь такой, – сойти с ума!
И ты поймешь, как много мира в мире.
Он звал тебя давно сойти с холма.
А этот холм, что пред тобой маячит,
где был как будто к звездам ближе ты,
он ровным счетом ничего не значит
для жизни в измеренье высоты.
Он – не вершина, он – лишь холм, не боле,
но будешь с ним в соседстве неплохом,
коль обретешь свой лес и дол, и поле,
и даже по-иному – этот холм.
И все, как надо, в сердце соберется,
и все тебе подскажет жизнь сама.
Пусть на холме останется березка –
твой постовой… А ты – сойди с холма.
Туманен и росен,
осенний рождается день.
Печалит не осень –
уход несравненных людей.
Не то, чтоб дружили,
не близкие и не родня,
но – были, но – жили,
и тем утешали меня.
На них – не молиться –
летать под защитным крылом!
И как примириться,
что это блаженство – в былом?
Вседневное горе,
всежизненная беда,
сиротская доля –
без этих людей навсегда.
И даже в природе,
что нам заменяет творца,
от этого вроде –
намек на возможность конца.
Встревоженно желтое,
впечатано солнце в зрачок.
Какое тяжелое
сердечко мое с кулачок.
И люди, и символы
и дня моего, и веков –
Твардовский и Симонов,
Луконин, Орлов, Смеляков…
Как пусто и скорбно
без вас на планете родной.
И все же, подобно
поэту эпохи иной,
как выход счастливый
из боли, которой больна, –
не то, что ушли вы,
что – были, я помнить должна.
…Иду от печки,
от уздечки,
которой лошадь вряд ли рада.
Иду от слова,
от засова,
который отодвинуть надо.
Открыть для воли,
отворить,
запрячь слова и рассупонить,
и тут же про задачу вспомнить,
про смысл и цель:
заговорить!
Ах, если б всё так просто было,
как молоток,
скребок
и мыло:
стирай,
скреби
и отбивай!
И вот, отмыты и отбиты,
лежат слова на поле битвы.
Чужие.
Без опорных свай.
А я молчу, как и молчала,
и начинаю от начала:
иду от сердца и ума.
Не от уздечки,
не от печки –
от речи, от истоков речки,
а речка – это я сама…
Назначенье – художник.
Среди прочих его укажите,
средь ученых, дотошных:
утешитель, шаман, небожитель.
Ничего не разрушив,
не нарушив, не злясь, не бастуя,
только делает души
аккуратно, как делают стулья.
Как хлебы выпекают,
как, забыв о нажимах, наживах,
за порог выбегают
в луч рассвета, под нежность снежинок.
Нам, художникам, просто.
Где сломает мозги кто угодно,
нам неймется, поется
и в пространстве, и в клетке
свободно.
На спасительный дождик
откликается сущее наше.
И шагает художник,
воротник, как подросток, поднявши.
Не дрожит и не тужит,
никому не грозит, не карает,
запускает по лужам
свой бессмертный бумажный кораблик.
1.
Простите все, кого люблю,
с кем я бывала невнимательна, –
свои! – то ласково, то матерно,
то – до небес, а то – к нулю.
Когда я буду в дальнем, том,
где судит только Бог повинного,
откроете – потом, потом! –
на все любовь меня подвигнула.
И если опыт мой ценим,
не вслед, рыданьями напрасными –
при жизни именно к своим
вы будьте бережны и ласковы!
2.
Отчего этот воздух так горек и кисл,
отчего сквозь прикрытые веки
открывается суть, открывается смысл –
для того, чтоб закрыться навеки?
Но шумит надо мной, за спиной пара крыл,
отвергая опоры, перила,
для того, чтобы то, что ты мне приоткрыл,
для себя до конца я открыла.
Я не согласна с нею.
Зачем она ушла?
Она была сложнее,
нежней, чем я, была.
Сама за край предела,
хоть это и грешно,
ушла, не захотела
досматривать кино.
А для меня – не пытка,
что время бьёт и злит,
Я больше любопытна,
чем опыт мне велит.
Нескладно и накладно…
Но я в который раз
прошу судьбу: «Ну, ладно, –
ещё один сеанс!»
И шаг несу упруго
к неясной цели той…
Прости меня, подруга,
под вечною плитой.
У вдов друзей
печальное житье.
От этой доли некуда деваться:
век помнить назначение свое –
писательской женою оставаться.
Она тогда сияла и цвела –
особая порода, племя, раса.
При старом муже девочкой была,
теперь сама стара и седовласа.
Когда их соберется больше двух,
неважно, что мы их героев хаем,
они стихи мужей читают вслух,
их прозу поминают с придыханьем.
Восходят позабытые слова.
Вдова больных и светлых слез не прячет!
И я – вдова,
и я еще жива.
А обо мне хоть кто-нибудь заплачет?
С пестротой своей жанровой
время нас не голубит,
век упрямо не жалует…
А сосед меня любит!
То есть, как и желаемо,
нет добрей и верней.
И ключи я дала ему
от квартиры моей.
А еще продавщица
из отдела молочного
о концерт причаститься
жаждет так озабоченно.
Я ей выдам билетик,
подарю свою книжку
и ничем не унижу
в барахолке столетья.
А еще эти птицы –
на балконном перильце.
Да и небо: до мига –
неоткрытая книга.
В общем, Бог с ним, и с веком,
и со временем тоже.
Ведь себя человеком
ощущаю я все же.
И в карман опустевший
день червонцев нарубит.
И земля еще держит.
И сосед меня любит!
«Погода измениться может…»
Погода измениться может,
пока же небу мой привет
за то, что и дождём не мочит,
и снегопада тоже нет,
за то, что не смиренный норов
покуда быть собою рад
и – ни заслуженных наград,
ни незаслуженных укоров…
«Хоть зла судьба к поэту…»
Хоть зла судьба к поэту,
хоть добра,
его душа –
не перекати-поле.
Поэту подобает худоба:
сгорают углеводы в топках боли.
Пылая, душит дымом материк
взволнованных вопросов без ответов…
Я не про тех, кто рифмы мастерит,