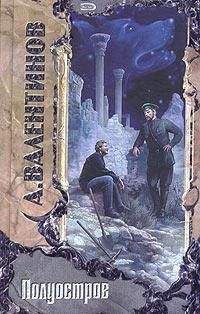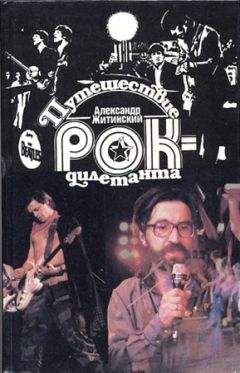1977
А ведь завидуешь!
Все-таки завидуешь
молодому худощавому генералу,
бегущему с опаленным знаменем
по Аркольскому мосту.
Завидуешь,
хотя и знаешь,
что впереди у него будет много крови
и гранитный утес
в самом конце.
Но у этого человека
был в жизни Аркольский мост.
А у нас,
живущих в покое и тишине,
было так,
чтобы знамя в руках,
картечь в лицо
и лазурное небо Италии
над головой в смятой треуголке?
1977
* * *
Шевалье… Голубой, словно небо, мундир.
Голубые гусары — не шутка!
Эскадрон наш в атаку повел командир
В ранний час, лишь сыграли побудку.
Славный рейд! Мы ворвались, сметя караул,
Перебили у пушек расчеты.
Кто дремал, тот навеки в то утро уснул,
А бежавших кончали с налета.
Был приказ — всех рубить — и трава не расти!
Не щадили и пленных не брали…
Был исполнен приказ. Но обратно уйти
Не пришлось. Нас уже ожидали.
Половину картечь перебила в упор,
Остальных размели кирасиры.
И на вспаханном поле лежал эскадрон,
Бросив в грязь голубые мундиры.
И сегодня над нами ромашки цветут.
Позабыты бои и пожары…
И в атаку уже никогда не пойдут
Шевалье. Голубые гусары.
1977
Как здесь тепло! Вокруг весна цветет,
И в воздухе — неясное томленье.
А кажется, холодный снег идет,
Печальный снег беды и пораженья.
Навек прощайте, Лоди и Каир,
Маренго, Аустерлиц и Эйлау,
Мундиров блеск, придворный душный мир,
Друзья, враги и грязь дорог кровавых.
Ах, как слепил алмазный блеск венца!
Но тех, кто шел в сраженьях до конца,
Не воскресить и не поднять из тлена.
Не велика ли плата за успех?
А снег идет, холодный русский снег
Средь солнечных долин Святой Елены.
1981
Немного одержимых на планете,
Чтоб оживить бессмыслицу и тлен…
Их трое было — «проклятых поэтов»,
И проклятый из проклятых — Верлен.
Нам не понять его безумной жизни,
Ее залитых горечью страниц,
Как жил чужим он в собственной отчизне,
Король поэтов, тюрем и больниц.
Ноябрьский шторм волну несет на пляжи,
И чайка в облака, крича, летит…
Как он сказал — никто уже не скажет,
Как он грустил — никто не загрустит.
Стать гением — поди решись на это,
Не опасаясь злобы и измен…
Их трое было — «проклятых поэтов»,
И проклятый из проклятых — Верлен.
1977
В девятнадцать пожухли краски.
Все без толку — живешь, творишь..
Среди джунглей, в болотах суданских,
Позабуду проклятый Париж.
Ничего, что мечты не исполнятся.
Что известность? Людей смешить?
Не нужны им усталые звонницы
Отгоревшей моей души.
Здесь — тоска. Ничего не хочется.
Нил в закатных лучах весь розовый…
Ничего, что поэзия кончилась.
Жалко только, что слишком поздно.
1978
Какая жалость!
(старинные куплеты)
Все не везет, какая жалость!
Я, как с французами сражались,
В полку гусарском воевал.
Все при крестах — я в плен попал.
Не удалось,
А удавалось!
Но не пришлось…
Какая жалость!
Играл в картишки раз нечисто,
И выиграл рублей уж триста,
Но тут сосед разоблачил,
И я, конечно, битым был.
Не удалось,
А удавалось!
Но не пришлось…
Какая жалость!
Решил я как-то с сослуживцем
С казенной кассой подружиться.
И, вроде, был от риска прок,
Ан ревизор — и мы в острог!
Не удалось,
А удавалось!
Но не пришлось…
Какая жалость!
С друзьями принял я решенье
Принять участье в возмущеньи.
Но разбежались все из страху,
А я попался — и на плаху.
Не удалось,
А удавалось!
Но не пришлось…
Какая жалость!
1976
К Байкалу, сквозь дебри, уходят колонны.
Мелькают вдали то изба, то погост.
И снег застывает на наших погонах
Цепочкой нежданных серебряных звезд.
«Мы будем в Иркутске!» — сказал вчера Каппель,
И мы прохрипели три раза «Ура!».
Да только нога разболелась некстати,
И холод — считай, минус тридцать с утра.
Стоят одиноко дорожные вехи,
Лишь сосны кивают солдатам в пути…
Кто там в Нижнеудинске? Наши ли? Чехи?
Как встретят? А хватит ли силы дойти?
Сегодня сказали — Колчак арестован.
За понюшку продал Иуда-Жанен.
Похоже, всем нам общий крест уготован,
Ведь «черных гусар» не берут они в плен.
От роты остался пустяк — только двое.
Сто десять штыков — наш отчаянный полк.
В промерзлой земле мы могилы не роем —
Друзья нам простят, что не отдали долг.
А вспомнят ли нас, как мы здесь замерзали,
Как гибли в проклятом таежном кольце?
А ночью все снятся знакомые дали,
И мама встречает на старом крыльце…
1977
Затихли за морем российские звоны.
Кругом заграница, и нечего жрать.
Пропал наш Голицын — он грузит вагоны.
Ушел Оболенский в шантан танцевать.
Кем стали вы нынче, друзья боевые?
На что променяли гвардейский свой дух?
Поручик Голицын берет чаевые,
Корнет Оболенский ласкает старух.
Союзнички лижут зады комиссарам,
А нам нет покоя ни ночью, ни днем.
И только на праздник берем мы гитару
И в бешенстве пьяном «Станицу» поем:
"Четвертые сутки пылает станица,
Потеет дождями донская весна.
Раздайте бокалы, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, налейте вина."
1985
В тиши тисненой переплета,
Как средь кладбищенских оград,
Давно уже не сводят счеты,
Давно не требуют наград.
Но память славных и бесславных
Роняет отблеск на листы,
Давно уж пред судьбою равных,
Давно оставивших посты.
Они друг друга убивали,
В крови неправый суд творя,
А тех, кто выжил, ожидали
Чужбина, ссылка, лагеря.
Как их закончились минуты,
Кто был, кто не был погребен?..
Печальный очерк русской Смуты,
Чреда ушедших вдаль имен.
1988
Он стать Петром стремился,
Но в чем-то был изъян —
Петр новый не родился,
Родился царь Иван.
Он Грозным был и Лютым,
Безжалостным — к своим.
И целых два Малюты
Стояли рядом с ним.
Он лихо брал Казани,
Хитер был и умен.
И Курбские бежали
От страха за кордон.
Сильвестров, Адашевых
Малютам отдавал,
А всяческих Грязновых
На диво всем прощал.
Бессмертным быть стремился
И умер средь грехов.
А следом воцарился
Никита Годунов.
1979
Здесь все по-другому. И ноги устали,
И наши винтовки тяжелыми стали,
И шага не слышно в лесной темноте.
Не Сьерра-Маэстра… И годы не те…
Но если немеют,
Но если слабеют
И даже винтовки коснуться не смеют,
И если при жизни уже бронзовеют,
Так, может быть, лучше Боливия?
Друзья далеко — им сюда не добраться.
А здесь нет подмоги — молчат и таятся…
Кругом обложили, долины утюжат,
И рейнджеры, словно стервятники, кружат.
Но если ты знаешь,
Что годы теряешь,
Что другу не друг ты уже, а мешаешь,
И если нет дела, а только болтаешь,
Так, может быть, лучше Боливия?
Наверно, когда я истлею в могиле,
Меня не поймут в этом вспененном мире.
Рецептов есть много, как людям помочь.
А мой — лишь винтовка и душная ночь.
Но пусть осуждают,
Пускай отлучают,
Пусть дети меня лишь со снимков узнают.
Быть может, поймут. Ведь порой понимают,
Что все-таки лучше — Боливия!
1977