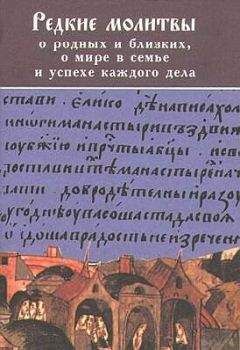Ты, читатель, старый или молодой — рад весне. Открыв утром окно, засматриваешься на вершины провинциальных деревьев, — голубое сияние овило ветви, и птицы на них быстры как первые цветы…
Ты, — идешь в гавань вдыхать запах смоленых и греть свою старую спину…
Ты, — катаешься ни лодка и проводишь ночи в строгом и торжественном воздухе весенних лесов. А ты, — просто сидишь на бульваре и ищешь свою весну в проходящих глазах.
Над дворами, над улицами, над городом стоит эхо.
Это не стук экипажей, не звон колоколов — это дети кричат весне. С каждым лучом, с каждой каплей дождя она нисходит благодатная….
Я же, старый пьяница, тоже ей рад. И когда меня тащат в участок, я, уцепившись за водосточную трубу, срываю ее сустав со стены. Меня несут в ним, — меня — пьяного трубача неисчислимых весен.
Ветер несет пыль. Сегодня ветрено с самого утра, и пыль повсюду. На подоконнике она ложится звездами, на раскрытой истории Египта заметает пирамиды и храмы. Серой маской покрыла лица глядящих, траву и деревья.
Скрипит раскрытое окно: — все желто и серо; на зубах хрустит песок. Ветер проносит пыль — моя душа глухонемая проводит дни не понимая — напеваю чуть слышно.
В доме убирают. Напрасно, забившись в уголки, улеглась пыль: — ее метут, поливают, вытряхивают, выбивают…
Через цветник с пыльным и весомым запахом, под опадающим боскетом прохожу в сад. С шумом клонятся деревья. Налетая на шипы гледичий и акаций, пробегает первый лист.
В саду метут аллеи — работницы и сторож.
Одна из девушек занозила ногу, а другая вынимает занозу штопальной иглой. Из ранки уже бежит кровь — Моя душа глухонемая проводит дни не понимая. — На грудях потерта кофта и просвечивают бурые сосцы. Я иду дальше а она, ухватив руками ступню, дико смотрит вслед.
Перекатившись через вал дерезы, ветер бежит в поле, мечет колосья и взывает копны. Далеко на самом горизонте вспыхивает он по дорогам, сожигая гарбы и лошадей. Сквозь гул деревьев доносится со степи глухое завывание молотилки. — Моя душа глухонемая проводит дни не понимая. Оторванный от птицы хриплый крик несется сквозь пробитые завесы деревьев. Пыль шурша бежит по сухим дорожкам.
В саду метут аллеи — работницы и сторож.
Девушка завязала ногу красной тряпкой и машет метлой. Я прохожу — Моя душа глухонемая проводит дни не понимая. — Дура! Отойди! Видишь панич идут! — Что Вы на нее кричите, как вам не стыдно! — Ей ничего, барин, — она глухонемая.
Так изнемогший и бесследный
Слежу склоненное светило
Иное пламя охватило,
Мой взгляд жестокий и бесцветный.
Влекусь к спешащим перекресткам,
Шепчу кому-то уверенья,
И дышит тонкий веер тленья
На смех дряхлеющим подросткам.
И след на мокром тротуаре
Затопчет беглыми ногами
Иной купец в угоду даме,
Пещась о проданном товаре.
И ты, подкупленный возничий,
Запутав след в вечернем граде
Божественных обличий ради
В паноптикум его сведешь.
«Пускай я тихий околодочный…»
Пускай я тихий околодочный
Иль в фартуке забытый друг
Я слишком трезв для чести водочный
Оббив сургуч о серый угол
Я знаю пламенем палимый
Необожженные уста
Их небольшая высота
Дала мне рассмотреть земными
«Людей вечерних томное зевание…»
Людей вечерних томное зевание —
Я вижу отдаленный брег
И чье-то кормчее старание
Направит в море лодки бег
И парус ветреный увянувши
Покрыл измученных людей.
И мальчик, с челна в волны прянувши,
Пленился холодом грудей.
Пред деревом я нем:
Его зеленый голос
Звучит и шепчет всем
Чей тонок день, как волос
Я ж мелкою заботой
Подневно утомлен
Печальною дремотой
Согбен и унижен.
И зрю, очнувшись в поле,
Далекий бег зарниц
И чую поневоле
Свист полуночных птиц.
Я шел через Тучков мост. Слегка морозило и тонкий снег покрыл мостовую и тротуар. Выйдя на дамбу с Петербургской стороны смотрел на оголенный Петровский парк и однотонно свернувшееся небо.
С моста на мост тянулись вереницы ломовиков, гремели трамваи, мелькали моторы, а извозчики, как тараканы, гурьбой то наезжали, то редели. Деловито спешили чиновники, какие-то господа в истрепанном штатском, сумрачные студенты и курсистки. Мальчики из лавки, разносчики, женщины в драных кацавейках шли бессмысленно и устало. Рядом с подводами, то ободряя и без того старательных лошадей, то сосредоточенно сбивая кнутовищем снежную пыль с грубой обуви, плелись возчики.
Снег нежным туманом скрыл и фасады первых домов и бесконечную улицу. На выбитых прохожими плитах тротуара кое-где блестели длинные замерзшие лужицы, — опасность и недовольство неловкого горожанина. И разносчики и мальчики из лавок при виде ледяного пятна, перед этим безразличные и спокойные, лукаво улыбнувшись, подбегали и, проехав два, три шага, продолжали путь невозмутимые и бездумные. Это, пожалуй, были все молодые, но вот, один из возчиков, с насупленными бровями и спутанной седой бородой, в меховой шапке с распущенными ушами, — оборванный и угрюмый, заторопился и перегнувшись, проскользил ледяную дорожку. Потом, удовлетворенный, сошел на мостовую и снова нависли брови и защетинилась седая борода.
Я подумал немного погодя: — не так ли скользит душа на верных тебе, муза, путях.
Я люблю гулять ночью. Но не в городе. Нет. Я люблю гулять ночью только там, где город обрывается — в парках, по набережным, по крышам. Город имеет ворота и ночью они открыты для входящих, но больше для выходящих. Ах! больше для выходящих.
Если бы я мог гулять каждую ночь, я когда-нибудь увидел бы пришельца, но я должен вести регулярную жизнь и гуляю редко. Должно быть, поэтому я увидел только уходящих. Город гонит дармоедов. Ночью все заняты. Больше ночью, чем днем, поддерживает жизнь черный чепец сырого неба. Когда выпадет первый снег город играет в чет и нечет, — белые берега, — черная вода.
Однажды я шел со знакомой по Ждановской набережной и спросил ее. — «Любите ли Вы снег?» Была поздняя ночь и мы шли медленно. На другой стороне Ждановки чернели деревья Петровского парка и кривились сарайчики для ланей и северных оленей. Отражение дерев шевелило под нашим берегом черные пальцы. Я сжал ее пальцы в черных перчатках и спросил — «Любите ли Вы след оленя на снегу?»
Гудели телеграфные провода: — незримый ветер колебал упругие тетивы. Свет дугового фонаря ложился повсюду изломанными стрелами. Лукаво улыбнувшись она сказала: «Ты меня спрашиваешь, люблю ли я снег и след оленя на снегу. Да, пожалуй, люблю, если ты олень — у них такие славные мордочки».
Мы спустились к самой воде. Черные струи омывали белый иней гнилых столбов. Наклонившись к самому лицу я спросил ее: «да? или нет?» — Но она ничего не ответила.
Нет, простите, я ошибся. Просто гулял один и задумался. Никто не спрашивал, никто не отвечал. Доел до Колтовской набережной и по Спасской вернулся домой.
Сегодня утром за чаем читаю в Биржевой газете: — «Вчера поздно вечером на Колтовской набережной была задержана неизвестная женщина совершенно нагая и, по-видимому, умалишенная. Несчастная спустилась с набережной в воду, в том месте, где труба железопрокатного завода спускает пары и горячую воду. Появление женщины было замечено, ее накрыли дворницким тулупом и отправили в больницу».
Нет! — то была не она! Артемида без собаки… Это невозможно?!.. хотя…?
В Питере бывают странные вечера. Октябрьский воздух, и без того влажный, пронизан тончайшею пылью дождя, фонари бросают желтый свет на торопливо уходящую толпу, а темные фасады домов ложатся грудью на шевелящуюся улицу. Вы заговорились, идете торопливо под намокшим зонтом, поднимая его то над гвардейцем, то над бледным студентом… а вдруг — там, над фасадами, над черным лесом труб закачалась еще влажная звезда, другая, третья… и только видно, как ветер уносит отсвечивающие клочья седого тумана. Выходите на Большой. Газетчик спешит вручить последние известия о Балканских славянах, взгляд бежит по затуманенным витринам; голова кружится от дневной усталости и вечернего шума.
Небо скрыто под кирасой пестрого цвета. Ноги забывают устойчивость тротуаров. Изредка мелькают лица последних дневных прохожих и часты лица в котелках с бритыми физиономиями.