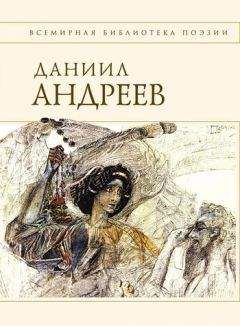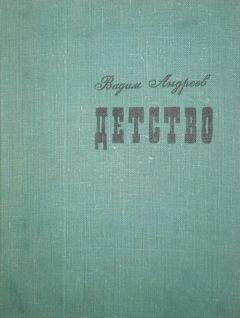«Так! Неопровержимый день рожденья!..»
Так! Неопровержимый день рожденья!
Пять чувств, раскрытые цветком.
Мне целый мир сегодня не знаком,
Мне кажется, что он достоин удивленья.
Но после многих, многих лет, когда
Ты бледным и линялым оком
Отметишь тень на облаке высоком
И слово скучное и страшное услышишь — «никогда»,
Тогда-то восемь чувств совсем не много:
Три новых — боль, тоска и смерть,
И надо мною голубая твердь
Раскроет щупальцы — все восемь — осьминога.
«Окно склоняется вот так…»
Окно склоняется вот так:
Окно, окна.
А за окном все тот же мрак
И та же ночь видна.
Крутясь, зеленоватый глаз
Звезды плывет.
Земля, тебя и в этот раз
Никто не назовет.
Все та же ночь, и в руки к нам
Плывет покой.
И тяжесть стелется к ногам,
И снова надо мной
Окно склоняется вот так:
Окно, окна.
О этот рок, о этот мрак
Бессмысленного сна!
Бетховен («Мы жизни с ужасом внимаем…»)
Мы жизни с ужасом внимаем
И, пустоту прикрыв рукой,
Неощутимо отмираем,
Чтим соблазнительный покой.
Мы счастью хлопотливо рады.
Душа до дна оглушена
Предчувствием пустой отрады
Опустошительного сна.
Но вдруг отдергиваем руку —
Тоской разверстые персты.
Туда, туда, в глухую муку
Твоей блаженной глухоты.
Наш смертный грех — глухой Бетховен.
Не по плечу нам горький свет.
Вотще! День пуст и многословен.
Что значит ветер сотни лет?
Святая глухота! И вровень
Любви — на эту высоту
Нисходит горестный Бетховен,
Развертывая глухоту.
«Моя горбоносая ночь — это ты!..»
Моя горбоносая ночь — это ты!
Профиль отца и бессонница.
Мне памятна рухнувшая с высоты
Образов дикая конница.
Мне памятна ночь и в ночи — этот шаг
Прерванной повестью схвачена,
Растерянно входит слепая душа
В смерч для нее предназначенный.
Легчайшая знает — бороться не в мочь
С ветром, безумьем и тучами.
Твой профиль секирой врезается в ночь,
Ночь отступает, измучась.
Но ластится тьма, но не кончен рассказ.
Ночь ни на чем не основана.
И снова над серыми ямами глаз
Горечь морщины безбровной.
Мне памятен шаг за стеной. О мое
Детство, и ночь, и бессонница.
Вот снова ломает копье о копье
Образов отчая конница.
«О грязца неземная трактира!..»[32]
О грязца неземная трактира!
О бессмертная пыль у ворот!
Для кого эта голая лира,
Надрываясь, скрипит и поет?
Вновь шарманки старушечье пенье,
Вновь сухие ползут облака,
Вновь заборов пустое смятенье
И шлагбаумов желчь и тоска.
Этот мир — вне покоя и срока,
Этот мир неподкупной мечты,
Этот мир — лишь бессонница Блока,
Неотвязный позор пустоты.
«Гляди: отмирает и все ж накопляется бремя…»
Гляди: отмирает и все ж накопляется бремя
Стихов и метафор — листвы у подножья ствола.
И в тех, что легчайшею молью затронуло время,
Зеленая жизнь незаметно уже отбыла.
И медленный ритм, так похожий на ритм Мандельштама,
Не мне одному указует на тонкую сеть
Прожилок и жил и на образы те, что упрямо
Живут, превратившись в прозрачную, милую медь.
Но в двадцать четвертую осень мою это бремя
Покойных стихов лишь слегка, лишь слегка тяготит.
Не знаю, что будет со мною, когда между теми
Листами увижу, что образ последний лежит.
«Время, прости! Облачко на закате…»
Время, прости! Облачко на закате.
Смотрим жемчужной разлучнице вслед.
Уже и уже от долгих объятий
Солнца чуть розовый — там — полусвет.
Там, — над отливом, над морем, над пеной,
Там — и над крабьими спинами скал, —
Над горизонтом, — прозрачной и тленной
Тенью, — лишь ты — вне земли и песка.
Мир и земля, даже этот осколок
Камня, и я, мы запомним легко
Небо вне времени, сосны и смолы,
Море и талое — там — облачко.
«На гладкий лист негнущейся бумаги…»
На гладкий лист негнущейся бумаги
Какая сладость нанести, спеша,
Излучины, заливы и овраги,
Моря, к которым ластилась душа.
И островов растерянную стаю,
И широту и долготу земли —
Но вот уже на горизонте тают
Отчаливающие корабли.
Обратных парусов тугое трепетанье,
В лиловый мрак ушедшая земля.
Опять нас к новому ведет свиданью
Суровая походка корабля.
Не так ли мы на смертном, милом ложе,
Спеша, наносим карту наших дней
И доверяем нашу душу дрожи
Потусторонних и тугих огней.
«Отстаиваясь годы, годы…»[33]
Отстаиваясь годы, годы,
В плену стекла и сургуча
Живут наследники свободы
Два черных, солнечных луча.
Страшась блаженства и покоя,
Стеклянным пленом тяготясь,
Набухнув нежностью слепою,
С подвальной мглою распростясь,
Густой струей, на край бокала,
Как бархат, — опершись слегка,
Пожаром влажного коралла,
Течет бессмертная река.
Так мы храним вдали от взоров
Земную молодость, но вот,
Преодолев покой затворов,
Она, расплавившись, течет.
«Тупым ножом раздвинув створки…»
Тупым ножом раздвинув створки
У чуткой раковины, мы
Находим в маленькой каморке
В перегородках влажной тьмы,
Немного призрачного ила,
Дыханье скользкой глубины,
Лучом подводного светила
Чуть озаряемые сны.
И вот, почти прозрачным шумом
Вдруг наполняется, спеша,
Всей нашей комнаты угрюмой,
Неразговорчивой, — душа.
Вот так же, чуть раздвинем створки
Неплотно пригнанных стихов,
Как в нашей слышится каморке
Незримый шорох голосов.
Осина («Бог наложит к слою слой…»)[34]
Бог наложит к слою слой
В тесном мире древесины,
В мире, замкнутом корой,
В мире дрогнувшей осины.
Тишина на самом дне
Мира без дверей и окон
Расцветет в гнилом огне
Темно-розовых волокон.
Недоступна взорам смерть.
Лишь дрожит, шурша листвою.
Мира призрачная твердь
И лицо его земное.
Теплым мехом ляжет мох
Согревать огонь прохладный,
И протяжный стынет вздох
Перед темнотой громадной.
«Шахматы ожили. Нам ли с тобой совладать…»
Шахматы ожили. Нам ли с тобой совладать
С черным и белым безумьем игры?
Мы не должны, мы не можем, не смеем собрать
И помешать им играть до поры.
Кто их сокрытую волю расторг и отверз?
Слышишь размеренный топот коней?
Мечется вдоль по квадратам грохочущий ферзь
В поисках черной подруги своей.
Ты вовлекаешься в эту слепую игру
Пешек, слонов, королев, королей.
Вижу, я вижу, — ты гладишь вспотевшую грудь
Взмыленных черных и белых коней.
Медленно, в пол-оборота ко мне обратясь,
Ты на себя надеваешь узду.
Ты как подарок берешь эту темную страсть.
Верно, я скоро к тебе подойду.
«Чаинки в золотом стакане…»