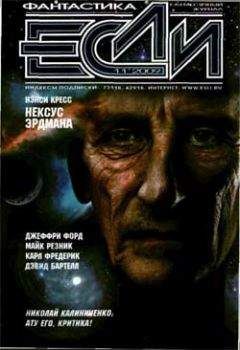здоровым, освежающим как шум дождя весной.
И жизнь свою дешевую здесь не отдам я дешево,
и чашу не допитую опять налью по край…
Прощай, прощай, любимый мой, всего тебе хорошего,
не жди меня в садах своих и злом не поминай.
В степи ни звука, ни души;
ужель весь мир притих…
Иду в предутренней тиши
безбрежьем трав степных.
Проезжий шлях, осиротев,
змеей убитой лег
и шепчет ветру нараспев
о горестях дорог.
О том, как много перенес,
как тяжко он избит,
слепой округлостью колес
и тупостью копыт.
Как у равнин, ложбин и скал,
змеясь то здесь, то там,
свои концы он растерял
запутал счет векам…
И, робко жалобы излив,
ответа ветра ждет;
а тот, заносчив и шумлив,
лишь о себе поет.
О том, как тесен белый свет
и как просторна ночь,
о доблести своих побед,
о радости и проч…
Из века в век, до этих пор,
в безлюдии ночном,
ведется этот разговор,
все об одном и том.
Тот — угнетен своей судьбой,
тот — буйством одержим…
И никогда между собой
не сговориться им…
Упрямая… В свои стихи,
как будто невпопад,
я, — кроме прочей чепухи,
вкрапляю правды яд.
Прочтя нехитрый этот стих,
ужель ты не поймешь,
что я посадкой плеч моих
на битый шлях похож.
Весь груз невзгод моей страны,
все тяжести войны,
я на плечах своих пронес
сквозь дни огней и гроз.
А ты… чем одержима ты
в рассвет своей поры?..
Тебе бы песни да цветы,
гулянки да пиры…
Оставь меня, не для того
я выжил от ножа;
уйди в безделье своего
шестого этажа.
А я останусь тут, внизу,
карабкаться и ждать
и будь покойна — донесу
мне врученную кладь.
Уйди и знай, — пройдут года
подобные векам;
как шляху с ветром — никогда,
не сговориться нам…
Скоро кончится дачный сезон,
скоро шумный, кокетливый сквер, —
облетевшей листвой обнесен, —
загрустит, неприветлив и сер.
Теплым солнцем весны возрожден,
но уже по осеннему стар,
будет никнуть и ныть под дождем
ласки листьев лишаясь — бульвар.
От дождя станет скользкой стезя,
и под ветренный говор и гуд,
шелест книжки под мышкой неся,
дети в школу, резвясь, побегут.
Август выжелтит зелени вязь,
к ноябрю подберется зима;
на остывшее небо косясь,
о дровах замечтают дома.
И опять мы в домах, и опять
нам придется за дело засесть,
в окна новые стекла вставлять
и замазывать щели где есть…
Друг мой крепкий, мне лета не жаль,
лето снова придет как-нибудь,
жаль, что плеч этих смуглую сталь
нам придется в тряпье завернуть.
Обнаженный и гибкий как стих,
первобытно здоров и хорош,
скоро легкость движений своих
ты тяжелым сукном облечешь.
На открытую шею свою,
на предплечий загар и закал,
ты наложишь мехов чешую,
чтоб не так тебя холод щипал.
Но не в силах сдержать свою прыть
и на новые штурмы готов,
станешь пыльные лыжи чинить
и оттачивать когти коньков…
…А пока еще сквер не зачах,
не осыпались листья пока, —
жидкий ситец открытых рубах —
не стремится под сень пиджака.
И в предчувствии будущих вьюг,
что нагрянут весь мир серебря, —
мы еще порезвимся, мой друг,
до сереюших дней ноября.
Предки лгали, деды врали,
я ль в наследьи виноват…
Дело было в Монреале
года три тому назад.
Монреаль, как вам известно,
(а известно это всем)
живописнейшее место
для эскизов и поэм.
Он и в фауне и флоре
лучше Африк и Флорид;
тут и горы, здесь и море,
синь и зелень и гранит.
Если б был я Тицианом,
посетив эти места —
на Венеру с толстым станом
я не тратил бы холста.
Я бы в красках прихотливых,
не жалея бренных сил,
в небывалых перспективах
этот город воскресил.
И в картинной галлерее
удивлялся б ротозей
и манере и затее,
и правдивости моей.
И в припадке впечатленья,
покорившийся страстям,
кто-нибудь мое творенье
распорол бы пополам.
А по эдакой причине,
года этак через три,
кучи книжек о картине
написали б Грабари.
И со шрамом в три аршина,
сквозь веков слепую даль,
пробиралась бы картина
под названьем «Монреаль»…
Если б, некоторым часом,
я Шаляпиным вдруг стал,
я бы самым страшным басом
этот город воспевал.
Взяв профундисто-басисто,
я бы так его вознес,
что Народного Артиста
дал мне сразу б Наркомпрос.
Дал бы щедро, даже гордо,