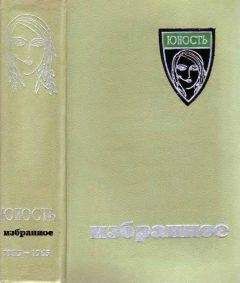Дубравке было грустно. Она долго смотрела в оконное стекло. Отражение в стекле немножко двоилось. Оно было похоже на старую засвеченную фотографию. Дубравка навивала на палец короткие жесткие волосы и думала: «Будь у меня такие же волосы, как у Валентины Григорьевны, ни один мальчишка не посмел бы бросить в меня щепкой».
Отражение колыхнулось. Это раму качнуло ветром. Но Дубравка успела заметить, как за ее головой во дворе появилась Валентина Григорьевна.
Дубравка повернула голову.
Валентина Григорьевна села на скамейку возле кустов. В руках она держала книгу, но не читала ее, думала о чем-то.
Дубравка хотела подбежать к ней. Но тут из-за кустов вышел руководитель драмкружка.
«Извиниться хочет», — подумала Дубравка.
Старый артист опустился перед Валентиной Григорьевной на колено и заговорил, то взмахивая рукой, то прижимая ее к груди.
Дубравка услышала слова:
— Я потрясен. Это — наваждение… Я словно воскрес, увидев сегодня чудо. Вы — чудо!..
Артист порывисто приподнялся, и Дубравке показалось, что он весь заскрипел, как старый, рассохшийся стул.
— Эх… — сказал кто-то совсем рядом. Дубравка посмотрела вниз. Под висячей лестницей, прислонившись к стволу алычи, стоял отец Сережки и Наташки.
— Красиво, — прошептал он. — Смотри, Дубравка, слушай. Сейчас вступит оркестр.
Валентина Григорьевна сидела растерянная и смущенная. Артист говорил что-то. Размахивал руками. Вскидывал резким движением легкие волосы.
Дубравка сунула в рот два пальца. Свистнула что есть мочи, резко, как кнутом.
— Браво! — сказал отец Сережки и Наташки.
Дубравка спрыгнула с лестницы. Независимо прошла по двору. Обернувшись у калитки, она увидела, как к Валентине Григорьевне и оторопевшему руководителю драмкружка подошел Петр Петрович.
Он сказал:
— Не нужно мыть уши душистым мылом…
— Да, — сказал старик. — Вы правы. Я смешон… Но я артист, этого вам не понять.
Дубравка шла по верхнему шоссе. Оно было очень прямым. Здесь собирались пустить троллейбус. Впереди на раскаленном бетоне блестели голубые радужные лужи. В них отражались облака и деревья. Когда Дубравка подходила ближе, они испарялись и вновь возникали вдали. Они словно текли по дороге сверкающей переливчатой радугой. Они возникали в нагретом воздухе. Обманывали глаза.
Дубравка ушла по шоссе в горы. Она ходила там долго. А вечером она сидела на парапете набережной, слушала море.
Кто-то тронул ее за плечо.
— Дубравка!
Рядом стоял старый артист.
— Дубравка, — сказал он, — я хочу тебе что-то сказать.
Дубравка независимо улыбнулась и заболтала ногами.
— Дубравка, извинись, пожалуйста, перед Валентиной Григорьевной за меня.
— А вы сами разве не можете этого сделать?
— Не могу, — сурово сказал артист. — Я сделаю это позже. И, пожалуйста, не воображай о себе невесть что… — Он помолчал и снова заговорил, но уже мягко, почти нежно: — Может быть, это хорошо, что ты не умеешь прощать. Но от этого черствеет сердце. Я не знаю, что хуже: быть мягким или быть черствым. Я знаю, например, что ты обо мне думаешь. Я на тебя не в обиде. Если человек вдруг упал, а потом высоко поднялся, то судить его будут по последнему… — Он не положил на Дубравкину голову своей руки, как бывало. Он просто сказал: — До свидания, Дубравка, — и пошел на другую сторону набережной. Туда, где шумел народ, где витрины устилали асфальт тротуаров желтыми электрическими коврами. И снова Дубравке показалось, что у него под пиджаком звенят струны.
Ночью Дубравка залезла в санаторий учителей и нарвала там букетик гвоздики.
Она пробралась по скрипучим карнизам, по ржавой водосточной трубе. Она уселась на подоконник в комнате Валентины Григорьевны и на испуганный вопрос: «Кто это?» — спокойно ответила:
— Это я, Дубравка. Я принесла вам гвоздику.
Валентина Григорьевна поднялась с кровати, уселась рядом с Дубравкой. Сказала грустно:
— Почему искусство такое… непримиримое? Почему так неприятно, когда тебя уличают в том, что ты не принадлежишь к нему?
— Это я наврала, что вы артистка, — сказала Дубравка.
— Зачем?
— Не знаю. Извините меня.
Валентина Григорьевна взяла у Дубравки гвоздику, поставила ее в стакан с водой.
— Почему ты мне приносишь цветы?
— Это я знаю, — сказала Дубравка. — Я вас люблю.
Валентина Григорьевна прислонилась к стене.
— За что? — тихо спросила она. — Я ведь ничего не сделала такого… Я понимаю, девчонки иногда влюбляются в артистов, даже не в самих людей, а просто в чужую славу. За что же любить меня?
— Вы красивая… Бабушка назвала вас Радугой.
Валентина Григорьевна села на подоконник, свесила ноги и чуть-чуть сгорбила спину.
— У меня бабушка спросила, не влюбилась ли я в какого-нибудь мальчишку, — продолжала Дубравка, глядя, как переливаются огни вывесок и реклам на приморском бульваре. — Будто я дура. А вы знаете, иногда я чувствую: подкатывает ко мне что-то вот сюда. Даже дышать мешает, и я всех так люблю. Готова обнять каждого, поцеловать, даже больно сделать. Тогда мне кажется, что я бы весь земной шар, подняла и понесла бы его поближе к солнцу, чтобы люди согрелись и стали красивыми. Мне даже страшно делается… Разве можно столько любви отдать одному человеку? Да он и не выдержит… А иногда я всех ненавижу. А мальчишек я ненавижу всегда!
Она замолчала. И ей показалось вдруг, что сейчас тишина разорвется и кто-то злорадный захохочет над ней во все горло. Потом она успокоилась, и тишина показалась ей значительной, наполненной внимательными глазами, которые благодарно смотрят на нее.
— Расскажи мне об отце этих малышей, Сережки и Наташки, — сказала Валентина Григорьевна.
Какая-то смутная тревога подступила к Дубравкиному сердцу. Дубравка съежилась.
— Зачем? — спросила она.
— Просто так… Мне кажется, он славный человек.
— Он странный… Купается ночью. От него табаком пахнет… Зачем вам?
Валентина Григорьевна смотрела на верхушки кипарисов, за которыми на морской зыби перламутрово мерцала лунная тропка.
— Красиво, — сказала она.
— Красиво… — прошептала Дубравка, поймав себя на том, что море и горы стали для нее скучными и мертвыми, как пейзажи на глянцевитых сувенирных открытках. Она заторопилась домой. Прошла по карнизу и, расцарапав живот о проволоку на водосточной трубе, соскользнула на другой карниз и с него — на подвесную лестницу.
Она кое-что знала об отце малышей Сережки и Наташки. Раньше она робела перед ним, как робеют ребята перед директором школы. Теперь она чувствовала к нему острую неприязнь.
Он работал в Ленинграде в научном институте. Делал какое-то важное дело. Жена его умерла, когда Сережке и Наташке было по году.
Говорят, после смерти жены он целую неделю катал близнецов в двухместной коляске и не мог пойти на работу. Потом он забросил коляску, подхватил ребят на руки — отнес в ясли. Когда малыши подросли, он отдал их в круглосуточный детский сад.
Нынче он приехал к морю на целых два месяца, потому что не отгулял положенный отпуск в прошлом году. Отдыхать он очень умел. Сам с собой играл в шахматы. Уходил на колхозных сейнерах ловить ставриду. Сережка и Наташка иногда по три дня жили на попечении соседей. Это он прозвал беспризорную собачонку Кайзер Вильгельм Фердинанд Третий. Встречая курортных знакомых, он говорил:
— Одолжите тысячу рублей. Отдам в Ленинграде.
Соседи и знакомые конфузливо оправдывались, недвусмысленно пожимая плечами. Вскоре они перестали попадаться ему на улице, предпочитая при встрече перейти на другую сторону, или прятались в подъездах домов. А он ходил с своими ребятами или просто один, пропадал с рыбаками на море и, кажется, не жалел ни о чем. Его называли чудаком. Он мог смотреть, не мигая. Мог мигать без причины и смеяться в собственное удовольствие.
Звали его Петр Петрович.
Утром к Дубравке в комнату залезли Сережка и Наташка.
— Дубравка, что такое лихая пантера? — спросили они.
— Вроде тигра, — сонно ответила Дубравка.
Сережка и Наташка внимательно осмотрели ее, даже пощупали пальцы на ее руках и сказали:
— Почему тебя папа пантерой назвал?
Дубравка вскочила:
— Он негодяй, ваш папа!
Близнецы насупились и молча полезли через окно на улицу.
— Он сам еще хуже! — крикнула Дубравка, высунувшись из окна.
Во дворе стояли Валентина Григорьевна и Петр Петрович. Сердце у Дубравки екнуло. Она хотела крикнуть: «Не ходите с ним на пляж!» Ей хотелось спросить: «Разве вам плохо со мной?» Но она с шумом захлопнула створки окна.
«Не пойду, — думала она. — Раз ей со мной неинтересно, то и не нужно. Не стану я ей навязываться. Выбрала себе этого… Я сейчас надену ботинки и пойду в горы».