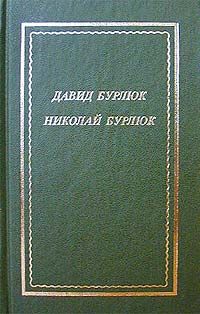Лившиц вспоминал о периоде своего раннего знакомства с Д. Бурлюком, признавшимся ему как-то, что для него «все женщины до девяноста лет были хороши»: «Верный своим всеобъемлющим вкусам, он бросался от одного увлечения к другому, готовый перед первой встречной женщиной расточать свой любострастный пыл. И странное дело: при всем своем физическом уродстве Давид пользовался несомненным успехом». Сам Д. Бурлюк об этом периоде писал в одном из стихотворений:
Я был юнцом румянощеким
И каждой девушке резвясь
Я предлагал свою щекотку
Мечтая в ночь окончить связь…
(«Я был селянским человеком…»)
Меньше всего в любовной поэзии Д. Бурлюка можно найти описание каких-либо душевных нюансов, попытки передачи или осмысления чувства, этических и психологических добродетелей объекта любви. «Голозадые женщины Давида», обильно представленные в его графике 1910-х годов, безусловно, сродни женским образам его поэзии — те же пропорции и параметры (не рубенсовские или кустодиевские — бурлюковские!), те же ракурсы восприятия, те же привлекающие внимание автора, по-настоящему «выдающиеся» части тела:
Пусть девы — выпукло бедро
И грудь, — что формой Индостан…
Они несут запрятанные тайны
Горящих глаз, расплетшейся косы
Округлости грудей красы необычайной
И выкроек бедра искусстнейше косых…
(«Девушки»)
И даже когда, казалось бы, стихотворению задается возвышенный, элегически-романтический настрой — Д. Бурлюк верен себе:
Утренние дымы деревень твоих,
Утром порожденный, мгле пропетый стих.
Голубые розы просветленных глаз
И широкий женский плодоносный таз…
(«Утренние дымы деревень твоих…»)
Даже при обращении к столь деликатной теме Д. Бурлюк остается самим собой — ненасытным, чрезмерным, избыточным, этаким футуристическим раблезианцем. И — живописцем. И показательно, что когда Д. Бурлюк пишет о «крупном пупке», похожем на «пьянящий колодец, наполненный нежною влагою страсти», о животе «пушистых и знойных размеров», о «девушке-ложе» и «женщине-блюде» («Похоти неутоленные» — сколь характерное для Д. Бурлюка заглавие!), о «заде», который «смутно окрылился» («Ушел и бросил беглый взгляд…»), о девочке, которая, «расширяясь бедрами, / Сменить намерена мамашу» («Дочь»), — это не производит впечатления ни безвкусицы, ни вульгарности. В поэтических координатах Д Бурлюка такого рода эротика выглядит вполне органично и уместно. Более того, именно она, возможно, играет центральную роль в его поэзии, являясь своего рода и ее лейтмотивом, и идейным ядром. Именно она выявляет некоторые существенные мировоззренческие позиции Д. Бурлюка, отразившиеся в его литературном творчестве. Ведь для его поэзии вполне характерны свойства, которые, пусть с некоторыми оговорками, можно было бы назвать натурфилософскими. И пусть взгляды Д. Бурлюка лишены видимой системности и упорядоченности, пусть в них не просматривается опора на какие-либо философские или естественнонаучные учения (хотя и известен интерес поэта к деятельности И. Павлова и других современных физиологов), идейные приоритеты автора вполне очевидны. Они во многом определяются тем мощнейшим жизнеутверждающим пафосом, который так характерен для поэзии Д. Бурлюка. Пусть в некоторых стихотворениях в воспевании смерти, в утверждении всесилия и абсолютности небытия он может иногда превосходить самых мрачных декадентов, все-таки общее впечатление, которое производит поэзия Д. Бурлюка, — это радостное, полнокровное, ненасытное восхваление жизни во всех ее проявлениях.
Мир в поэзии Д. Бурлюка — это как бы огромный организм, некая вечно живущая субстанция, единая физиологическая система. И существование его обусловлено не отвлеченными идеями и умозрительными ценностями — философскими, этическими, эстетическими, политическими и т. д., — а некими органическими процессами, ощущением собственной самодостаточности, уравновешенности, стабильности. Этот мир под стать самому Д. Бурлюку, он — как бы его гигантский автопортрет, каждая деталь, каждый элемент его несет на себе черты автора.
Со свойственной ему прозорливостью Д. Бурлюк первым понял, что со вступлением России в Первую мировую войну общественный интерес к футуризму естественным образом уменьшился и что футуристам срочно необходимо было менять свою поведенческую тактику: время перманентной литературной и общественной конфронтации прошло. Именно Д. Бурлюк, казалось бы, самый последовательный в своей непримиримости, первым из футуристов заговорил о необходимости существования «единой эстетической России», — с таким подзаголовком в альманахе «Весеннее контрагентство муз» (М., 1915) была опубликована его стилизованная под речь, произнесенную с «изломанного лафета австрийской гаубицы», статья «Отныне я отказываюсь говорить дурно даже о творчестве дураков». Статья эта, написанная во вполне футуристической манере вызова и эпатажа, на деле носила вполне примиренческий, даже дружелюбный характер. «Слово мое, — писал Д. Бурлюк, — мало заинтересованное успехом конечного результата, имеет целью показать перемену в настроениях и мыслях отчаянных голов — футуристов, главным образом, конечно, моей». Перемена действительно произошла, если лидер будетлян заявляет: «Обращаюсь и убеждаю: будьте подобны мне — мне носящему светлую мысль: „всякое искусство — малейшее искусство — одна попытка, даже не достигшая (увы!) цели — добродетель!“» С другой стороны, вряд ли уж Д. Бурлюка можно заподозрить в неискренности и конъюнктурности. В это время, в силу различных обстоятельств, футуристы оказались не в состоянии выступать единым фронтом, тем более что для некоторых из них настоящий — не литературный, а военный — фронт, стал неизбежной реальностью. И Д. Бурлюк, выступая от себя лично, а не выражая групповые интересы, высказал точку зрения вполне для него характерную. Он и сам это подчеркивал: «…Это мое выступление не является выступлением от какой-либо группы или партии — а публичное исповедание моих личных взглядов (симптоматичных все же, должно быть, для этой эпохи, в кою мы вступаем, и посему, — достойных внимания)…» То, что для русского футуризма действительно настала новая «эпоха», вскоре заявит в этапной для всего движения статье «Капля дегтя» Маяковский: «Да! футуризм умер как особенная группа, но во всех вас он разлит наводнением.
Но раз футуризм умер как идея избранных, он нам не нужен. Первую часть нашей программы разрушения мы считаем завершенной. Вот почему не удивляйтесь, если сегодня в наших руках увидите вместо погремушки шута чертеж зодчего и голос футуризма вчера еще мягкий от сентиментальной мечтательности сегодня выльется в медь проповеди».
В начале лета 1915 года Д. Бурлюк с семьей уезжает в Башкирию, где, по-видимому, занимается поставкой сена на фронт, что, впрочем, не мешает ему вести активную творческую деятельность и периодически наведываться в Москву.
Последний этап совместной деятельности футуристов «первого призыва» приходится на революционные 1917–1918 годы. Д. Бурлюк принимает участие в художественном оформлении «Кафе поэтов» в Москве и организации новогодней «Елки футуристов» в Политехническом музее. В марте 1918 года увидел свет единственный номер «Газеты футуристов», выпущенный Маяковским, Каменским и Д. Бурлюком. В газете, среди прочих материалов, были опубликованы две коллективные декларации: «Декрет № 1 о демократизации искусств: (заборная литература и площадная живопись)» и «Манифест Летучей Федерации Футуристов». С ними перекликалось опубликованное тогда же стихотворение Каменского «Декрет О заборной литературе — О росписи улиц — О балконах с музыкой — О карнавалах искусств», один из призывов которого гласил:
Художники — Великие Бурлюки
Прибивайте к домам карнавально
Ярчайшие свои картины
Тащите с плакатами тюки —
Расписывайте стены гениально
И площади — и вывески — и витрины.
Д. Бурлюк не заставил себя ждать и упрашивать, начав «демократизировать» искусство немедленно. Тот же Каменский вспоминал: «На другой день после обнародования моего декрета я шел по Кузнецкому и на углу Неглинной увидел колоссальную толпу и скопление остановившихся трамваев.
Что такое?
Оказалось:
Давид Бурлюк, стоя на громадной пожарной лестнице, приставленной к полукруглому углу дома, прибивал несколько своих картин.
Ему помогала сама толпа, высказывая поощрительные восторги.
Когда я, тронутый вниманием, пробился к другу, стоявшему на лестнице с молотком, гвоздями, картинами и с „риском для жизни“, и крикнул: