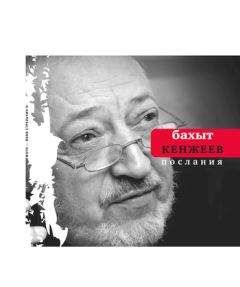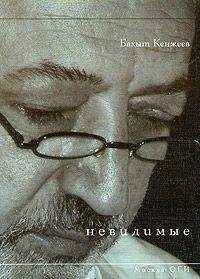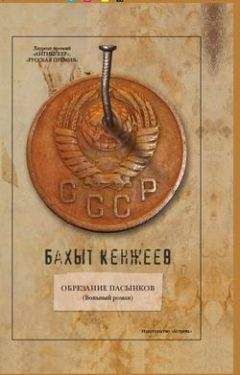3. «Почтеннейший Моргулис, высылаю…»
Почтеннейший Моргулис, высылаю
курьерской почтой рукопись, в надежде,
что ты меня ещё не проклял. Долго
я с ней возился и, в конце концов,
отправившись с семейством в декабре
на воды, захватил её с собою
и попотел изрядно, исправляя
где перевод, где – автора, который
(признаюсь по секрету) простоват,
и часто, часто склонен в дверь ломиться
открытую. Ведь нам с тобой и так,
мой Михаил, доподлинно известно,
что Иисус есть Бог, что доказательств
не требуется добрым христианам,
а коли ты безбожник – никакая
брошюрка в сто страниц не обратит
язычника в спасительную веру…
Ну, не сердись. Ты, знаю, убеждён,
что там, в атеистических краях,
народ непросвещённый жадно ждёт
напористых речей заокеанских,
которые мы в меру слабых сил
перелагаем на язык отчизны…
Вернулись с юга. Труд мой завершён.
И вот в сочельник еду я со службы
в омнибусе, купив жене в подарок
настольный канделябр, а сумку с текстом
засунув под сиденье. Зачитавшись
газетой либеральной из Москвы
(там смягчена цензура, вольнодумцев
освобождают, вводят суд присяжных,
купцам дают дворянство, и едва ли
не отменяют крепостное право),
я выхожу – а сумка и останься
в омнибусе! Моих истошных криков
не слышит кучер, и ни одного
извозчика в округе! Всё пропало!
И корректура, и наброски пьесы,
и дневники, и письма! Рождество
омрачено – опять до поздней ночи
тоскуя, правлю текст… а через две
недели – представляешь ли? – открытку
прислал мне стол находок. Отыскался
мой скучный труд! Признаться, я подумал:
вот нация, достойная своей
прекрасной королевы. В ежедневном
единоборстве с северной природой
нет времени у честного канадца
губить страну в пожаре революций,
гражданских войн и бунтов, разрушая
порядочность грядущих поколений…
Не потому ль, любезный мой Моргулис,
любая смута – в Азии ль, в Европе —
бросает человеческие волны
к гостеприимным этим берегам?
Ну, будь спокоен, милый. В третий раз
я книгу просмотрел, добавил новых
поправок, можешь сразу отдавать
типографу. Даст Бог, и вправду будет
в отечестве прочитан и оценен
заморский проповедник… До свиданья,
друг Михаил. С повинной головою
пора идти к ревнивым аонидам,
утратившим былую благосклонность:
уж больше года дикая Канада
не слышала моей угрюмой лиры.
4. «Мой добрый Милославский, с Рождеством…»
Мой добрый Милославский, с Рождеством
тебя Христовым. В нашем Монреале
на две недели позже свистопляски
коммерческой, когда католик честный
отпраздновал уже и Новый год,
и ёлку полувысохшую вынес
навстречу мусорной телеге, мы
его справляем тихо, без затей:
негусто с православными в Канаде,
и те, сам знаешь, больше ждут весны
и светлого Христова Воскресенья.
В газете из Парижа, доходящей
с изрядным опозданием, встречаю
твои статьи о храмах, о легендах
Святой Земли – а это значит, ты
благополучен – не убит арабом,
не выслан из державы иудейской
верховным раввинатом. Но, признаться,
скучаю по твоим рассказам, по
пространным, страстным письмам. Где новеллы,
где твой роман заветный? Неужели
тебя, мой друг-прозаик, так смутили
реформы на Руси? Властитель дум
там ныне – журналист-разоблачитель,
экономист, умеющий расчислить
сравнительные выгоды оброка
и барщины, да автор престарелый
когда-то запрещённых откровений
двадцатилетней давности. Кипит
отечество, пристрастно выясняя,
насколько голым был король покойный.
Там, на полях литературных схваток,
один зоил клеймит другого, третий
провозглашает русскую идею,
обоих упрекая – то в мздоимстве,
то в верной службе прежнему тирану.
Теперь в народе новые герои —
ремесленник, купец, изобретатель,
единоличник. Бедные поэты!
Им впору хоть топиться, как писал
несчастный Баратынский. Но тебе
не стыдно ли, мой добрый Милославский?
Когда недобросовестный подрядчик
возводит храм на зыбком основанье
из скверного песчаника и сам
находит смерть в развалинах, когда,
всем миром по ассарию, по лепте
собрав, постановляют строить новый
похожий храм – смутится ли певец,
сжимающий возлюбленную лиру?
Литература выше перестройки,
мой Милославский. Даже если там,
на родине, соорудят хрустальный
Дворец Предпринимателя, ремёсла
вдруг возродятся, в лавках зеленных
пахучей грудой лягут апельсины
из Палестины, новый Ломоносов
прославит просвещённого монарха —
я и тогда, чуть обернусь, увижу
твой страшный Харьков – мытарей, блудниц,
разбойников, в отчаянии жизнь
хватающих рукою перебитой,
и Сына Человеческого, молча
глядящего в слепые их глаза.
5. «Любезный Марк, из сонного Торонто…»
Любезный Марк, из сонного Торонто
всего два дня письмо твоё летело.
Морозным, ясным утром я, достав
из ящика его, решил на службу
чуть припоздниться, чтобы прочитать
в кондитерской. Знакомый половой
мне улыбнулся, подавая слойку
и крепкий кофий. Местные красотки
в бобровых шубах бойко щебетали
за столиком соседним, и таким
уютом жизнь дышала. Парижанин
пускай смеётся – в целом Новом Свете
нет города милей для либеральных,
ленивых жизнелюбцев вроде нас с
тобою, Марк. Как жаль, что ветер
странствий
погнал тебя на запад, в цитадель
охотников, купцов, аристократов
сомнительных, чей громкий титул только
в Торонто и берут на веру. Впрочем,
в провинции карьеру сделать легче.
Ты начал скромно. Но учти, привратник —
первейший друг дворецкому, а тот,
не сомневаюсь, вскоре убедится,
что ты не так-то прост. Доложит графу,
ты станешь управляющим, а может,
и лучше. В министерстве я навёл
кое-какие справки. Гордый граф
не чужд торговли, даже вхож в правленье
Компании Гудзонова залива,
а та как раз ведёт переговоры
с посольством русским (кажется, в Оттаве)
о тульских ружьях, ворвани и об
уральском чугуне. Вот тут-то, милый,
и выйдешь ты на сцену – эмигрант
из тех краёв, ещё не позабывший
ни языка, ни азиатских нравов
отечества. Сумей же доказать,
что ты и впрямь в привратницкой каморке
случайно оказался, что когда-то
ворочал миллионами, что ныне,
когда социалисты поумнели
и зверем не кидаются на прежних
российских граждан, ты послужишь верой
и правдою любимой королеве…
У нас мороз. Страдаю инфлюэнцей.
Чай с мёдом пью, стараюсь обойтись
без доктора – боюсь кровопусканий.
Супруга сбилась с ног – мальчишка тоже
хворает, бедный. Как твоё потомство?
Уже и зубки режутся, должно быть?
Забавны мне превратности Фортуны!
Давно ли в Петербурге, белой ночью,
стояли мы над царственной Невою
недалеко от Биржи, и давно ли
ты, честный маклер в чёрном сюртуке,
читая телеграммы, ликовал,
потом бледнел, потом, трезвея, тут же
спешил распорядиться о продаже
то киевских, то астраханских акций?
Мой славный друг, в торонтской глухомани
любой талант заметнее. Ты молод
и несгибаем. Отпрыск твой растёт
молочным братом юного виконта.
Лет через пять, когда переберёшься
обратно в Монреаль и заведёшь
открытый дом в Вестмаунте, явлюсь
к тебе на бал – и за бокалом брюта
уговорю, ей-богу, учредить
стипендию писателям российским.
6. «Прелестница моя, каков портрет…»
Прелестница моя, каков портрет,
какое платье! Прямо как живая.
А кто фотографировал? Супруг
законный, неизменный? Или дочка?
Ты мало изменилась, друг сердечный —
неугомонный, милый, жаркий взгляд
всё так же неприкаян…
В Монреале
обильный снег, навоз дымится конский
на мостовых, у ратуши изваян
индеец ледяной, – у нас зима,
та самая, которой так тебе
недостает во Фландрии. На днях
читал стихи я в эмигрантском клубе.
Разволновался, сбился… наконец
поднял глаза. Поклонники мои
(семь стариков и две старухи) в креслах,
кто тихо, кто похрапывая, – спали.
Поднялся я и вышел, улыбаясь
неведомо чему. Ах время, время,
грабитель наш. Бежать российских смут,
найти приют за океаном, спать
и видеть сны – не о минувшем даже,
а о подагре, лысине, одышке…
Дошел до моста. На реке застывшей
мучительно, нелепо громоздились
чудовищные льдины. Экипажи
скрипели, матерились кучера
на пешеходов, жмущихся к перилам.
В июне, в день святого Иоанна
Крестителя, такие фейерверки
устраивает мэрия! Народ
толпится на мосту, кричит, теснится,
и всякий год один-другой несчастный,
конечно, тонет. Властная река
уносит жертву развлечений. Что ж,
не отменять же празднества…
Так значит,
роман мой не удался? Не беда,
он – плод другого времени, когда
я был влюблён, порывист, бескорыстен,
короче – юн. А юность простодушно
рассчитывает, устранив преграды
к предмету вожделений, насладиться
означенным предметом. Я с тех пор
узнал, моя голубушка, тщету
стремленья к счастью, научился видеть
не в будущем его, не в прошлом даже,
а в настоящем – скажем, в духовом
оркестре у реки, где конькобежцы
катаются по кругу, в снегопаде
рождественском, в открытке долгожданной
от старого товарища. Об этом
(а может, не об этом) всякий вечер,
едва заснёт мальчишка, а супруга
садится за грамматику, в гроссбухе,
по случаю доставшемся, пишу я
другой роман, не представляя, кто
возьмёт его в печать. Литература
сейчас не в моде, милая. А впрочем —
ты видела занятнейший отрывок
в январском «Русском вестнике» за прошлый
год? Славно пишет этот Достоевский.
Фантастика (к примеру, там сжигают
сто тысяч в печке), жуткий стиль, скандалы,
истерики – а право, что-то есть.
Герой романа, обнищавший князь,
страдающий падучей, приезжает
на родину с идеями любви,
прощенья, братства и славянофильства.
Наследство получает – и с одним
купчишкою (кутилой, богачом)
вступает в бой за некую Настасью
Филипповну – хотя и содержанку,
но редкую красавицу, с душою
растоптанной – имеется в виду
Россия, надо полагать, дурная,
безумная и дивная страна…
Кто победит? Бог весть. Блаженный князь?
Гостинодворец? Или третий кто-то,
на вороном коне, с трубою медной
и чашей, опрокинутой на землю?
7. «Приветствую тебя, неповторимый…»