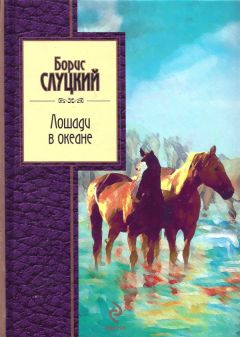Но тогда возмутило меня совсем другое.
— Ах, вот как! — иронизировал я. — Свалены, значит? А сам он, бедный, выходит, ни в чем не виноват?
В этом слове («свалены», как мне запомнилось, или «взвалены», как теперь напечатано) мне померещилось стремление Бориса выгородить Сталина, защитить его от «несправедливых» нападок.
Хотя в основе чувства, вызвавшего к жизни эти стихи, вероятно, лежало более глубокое, чем мое, осознание той простой истины, что главной причиной наших бед был не Сталин, а порожденная — конечно, им, Сталиным, но не только им — система.
* * *
Из аргументов тех, кого раздражила и даже возмутила коржавинская эпиграмма, особенно часто мне приходилось слышать такой:
— Что значит — «комиссарил»? Ведь он же не фальшивил! Не лгал! Был искренен.
Да, пожалуй. Но это была искренность особого рода.
Это такая была у него установка.
* * *
Однажды зашла у нас речь о молодых Евтушенко и Вознесенском. Я нападал на них, Слуцкий их защищал. Как и всегда в наших разговорах, каждый остался при своем. Но в заключение Борис довольно жестко подвел итог:
— Все дело в том, что вам не нравится двадцатый век. Вам не нравятся его вожди, вам не нравится его поэты…
Я сказал, что с поэтами дело обстоит сложнее, но вожди действительно не нравятся.
Ему они, конечно, тогда тоже уже не нравились. И я это прекрасно понимал: ведь только что им были прочитаны «Бог» и «Хозяин». Но, распаленный его невозмутимостью, я стал кидаться уже и на «Хозяина», и на «Бога». Сказал, что, в отличие от него, своим хозяином Сталина никогда не считал, портретов его нигде не вешал, да и как Бога тоже его никогда не воспринимал.
Он сказал:
— Я не хочу рисовать картину той нашей жизни извне, как бы со стороны. Я был внутри.
Эта установка давала себя знать во всем. Во всех тогдашних его суждениях и оценках. Со стороны могло даже показаться, что все эти суждения и оценки не слишком расходятся с официозными, ортодоксально советскими.
Однажды в каком-то разговоре я в издевательском духе высказался о Берлинской стене. Сказал, что это сооружение позорит нашу страну. Он сказал, что «у нас» не было другого выхода. Я возразил, что выход был, и на его вопрос: «Какой?» легкомысленно ответил:
— Да отдать им Восточную Германию, и все тут! На что она нам!
Он отнесся к моему предложению так, как если бы оно исходило от двухгодовалого младенца. (Позже я узнал, что тот же выход из этой политической ситуации после смерти Сталина предлагал Лаврентий Берия, который младенцем в этих делах отнюдь не был.)
Такой же снисходительный тон государственного человека, не желающего унижать себя разговором с обывателем и политическим недоумком, появлялся у него всякий раз, когда нам случалось говорить на политические темы.
Но знал я и другого Слуцкого.
* * *
Году этак что-нибудь в 1963-м на протяжении двух месяцев сидели мы с ним в Коктебеле за одним столом. Вместе завтракали, обедали, ужина ли и рассказывали друг другу разные истории, или, как сказано у Бабеля, замечания из жизни. Я расскажу — он расскажет. Истории цеплялись одна за другую, и казалось, что, сиди мы вот так хоть целый год, не оскудеет наш запас, не будет этим нашим историям ни конца и ни края.
Почему-то — уж не знаю почему — случилось так, что все эти наши устные мемуары упорно, словно каким-то невидимым магнитом притягиваемые, склонялись к одной теме: причудам нашей родной социалистической экономики.
Началось с того, что я рассказал про забавный казус, приключившийся с моим соседом по дому Рудольфом Бершадским.
Когда кооперативный дом наш на Аэропортовской еще только строился, мы, будущие его обитатели, то и дело приходили полюбоваться, как идет стройка, и уходили счастливые, увидав, что дом вырос еще на пол-этажа. Почти все мы до этого ютились по коммуналкам, и грядущее вселение в отдельную квартиру представлялось немыслимым счастьем. И вот, когда дом уже подбирался к последнему — девятому — этажу, нам объявили, что каждый может заказать себе индивидуальную планировку. Скажем, увеличить кухню за счет прилегающей к ней комнаты. Или наоборот.
Соответствующие расходы надо было, понятно, предварительно оплатить. Но цены тогда на все эти дела были божеские, а по нашим нынешним временам так и вовсе символические.
Я тем не менее на эту удочку не клюнул. А Рудя Бершадский — клюнул. Он заказал себе тамбур. Это значило, что длинную кишку коридора, тянущуюся через всю его квартиру, он решил перегородить: в полутора метрах от входа навесить вторую дверь. Получалось очень элегантно: входя в квартиру, вы попадали в крохотную прихожую, снимали там пальто, шапку, если хозяин прикажет, и обувь меняли на тапочки, и только после этого, отворив вторую дверь, попадали уже в собственно апартаменты. И вот, оплатив соответствующим образом эту индивидуальную планировку, Рудя стал чуть ли не каждый день наведываться в будущую свою квартиру, чтобы поглядеть, не сделали ли ему наконец вожделенный тамбур. Но всякий раз ему отвечали, что нет, пока не сделали, поскольку до сих пор на стройку не завезли дверей.
Но всякому ожиданию, как известно, рано или поздно приходит конец, и в один прекрасный день, явившись на свой пост, Рудя услыхал, что его тамбур вроде наконец готов. Ликуя и содрогаясь, как сказано у того же Бабеля, он взбежал по лестнице, толкнул дверь своей будущей квартиры, и… Нет, его не обманули. Прихожая, которая так долго являлась ему в мечтах, была именно такой, какой он ее себе представлял. Но когда он сделал попытку открыть вторую дверь и пройти в квартиру, из этого ничего не вышло. Дело было в том, что первая, входная дверь открывалась внутрь квартиры, то есть от себя. А вторая — та, которую рабочие наконец навесили, — на себя. А поскольку тамбур, как я уже сказал, был крохотный, две двери — первая, входная, и вторая, ведущая в квартиру, — сталкивались друг с дружкой, и проникнуть в квартиру при такой раскладке не было никакой физической возможности.
— Мужики, вы что же это мне сделали? — спросил ошеломленный Рудя у неспешно копошившихся в его квартире работяг.
— Чего?.. А-а, это? — невозмутимо ответствовали они. — Да нам тут, понимаешь, завезли только левые двери. Правых, говорят, сейчас нету…
— Так ведь в квартиру же не войти… Как же я…
— Да ты, хозяин, не волнуйся, — успокоили его. — На той неделе завезут нам правые двери, и мы тебе ее поменяем.
— Так какого же дьявола вы навешивали эту дверь, если она не годится? Зачем двойную работу делать?
Тут на него посмотрели как на малолетку-несмышленыша:
— То есть как — зачем? Ведь если бы мы не навесили, нам бы ведомость не закрыли. Мы бы расчет не получили… Да ты, хозяин, не волнуйся! Все будет путем. Приходи на той неделе, увидишь: будет у тебя нормальная дверь.
Выслушав эту историю, Слуцкий в ответ рассказал свою.
До какого-то высокого начальства дошло, что наш отечественный трактор существенно тяжелее американского трактора той же мощности. Тут же в соответствующий НИИ было спущено задание: довести вес отечественного трактора до американского стандарта.
Ученые мужи в НИИ решили эту задачу просто. Всюду, где можно было, они заменили тяжелые металлы (железо? сталь?) на более легкие (дюраль? алюминий?). Себестоимость трактора при таком раскладе сильно выросла, но фирма не беспокоилась о затратах: задание-то было не удешевить машину, а сделать ее легче. А это было выполнено, и даже более того: новый трактор, наполовину сделанный из цветных металлов, оказался легче американского. Выходило, таким образом, что наши конструкторы не только догнали, но и перегнали Америку.
Но у нового трактора оказался один довольно существенный недостаток. Он не мог нормально двигаться. Он не передвигался по земле обычным способом, как ему полагалось, а прыгал, как лягушка.
Вероятно, новый вес трактора требовал какой-то новой, совершенно иной его конструкции.
Но ученые ребята из НИИ и тут не растерялись. Они стали загружать трактор балластом, подвешивать к нему какую-то там чугунную гирьку, что ли. И в конце концов пришли к результату, при котором и волки были сыты, и овцы целы. Трактор стал хоть и не таким легким, как в начале эксперимента, но все-таки не тяжелее американского. И при этом нормально двигался.
Ну а что касается стоимости цветных металлов, пошедших на его «усовершенствование», так до этого, естественно, никому не было дела. Никто ведь за них не платил. Да и кому платить, если все — свое, то есть — государственное, то есть — ничье.
Выслушав эту историю, я вспомнил рассказ своего приятеля, побывавшего на целине, о том, как они возили на грузовиках зерно по тамошнему бездорожью. Когда грузовик буксовал, черпали зерно ведрами, щедро сыпали его под колеса и двигались дальше, до следующей заминки.